 Русская писательница Евфросиния Керсновская прожила нелегкую жизнь, полную невзгод и отчаяния. Пройдя через ГУЛАГ, она, пусть и не так громко, как Солженицын и Шаламов, поведала о том, что происходило по ту сторону ада. «Горький» прочитал дневники и личные заметки Керсновской и делится с вами самыми интересными и страшными отрывками из них.
Русская писательница Евфросиния Керсновская прожила нелегкую жизнь, полную невзгод и отчаяния. Пройдя через ГУЛАГ, она, пусть и не так громко, как Солженицын и Шаламов, поведала о том, что происходило по ту сторону ада. «Горький» прочитал дневники и личные заметки Керсновской и делится с вами самыми интересными и страшными отрывками из них.
О НАДЕЖДЕ
Почему в эти самые безнадежные дни я не испытывала ни страха, ни отчаяния? Как будто уже перешагнула ту черту, после которой все страдания становятся нереальными. Не физические, разумеется, а психологические, к которым и относится отчаяние.
Откуда брались силы, чтобы идти? Когда я, обессилев, ложилась, зарывшись в снег, укутавшись одеялами, я все время чувствовала, что где-то совсем рядом на страже стоит Смерть. Должно быть, это заставляло меня просыпаться, когда я была на волосок от вечного сна.
Что давало мне силы встать и идти дальше?
Говорят, что самая ужасная из моральных пыток — это пытка надеждой; с другой стороны, без надежды нет и жизни. Мне же кажется, я считала: надеяться не на что, но попытаться можно.
* * *
Многое я мотала себе на ус, и прежде всего то, что в липкой паутине страха никто не осмеливается не только указать на недостаток, но не смеет его и заметить. Никакой критики! А это значит — никакой надежды на улучшение.
О ЛЖИ
Надсмотрщики никого не хлестали бичом и не тащили за шиворот; они просто вызывали по заранее составленному списку и успокаивали, улыбаясь, встревоженных женщин. Когда же вызванные не вернулись и женщины, почуяв недоброе, заголосили, — им солгали, их обманули.
Признаюсь, что в этом обмане замешана была и я.
— Кто из вас знает и русский, и молдавский язык? Нам нужно растолковать женщинам, зачем мы взяли их мужей, — обратился конвоир к «населению» нашего вагона, самого близкого к служебному.
Разумеется, вызвалась я. Разве я знала, что сообщу им ложь?
Много времени потребовалось для того, чтобы окончательно убедиться, что у нас все от начала до конца построено на лжи, ложью питается и порождает лишь обман…
Вот что я должна была сообщать, когда меня водили из вагона в вагон:
— Женщины! Туда, куда вас привезут, ничего не приготовлено для вашего удобства. Мужчины поедут вперед, прибудут раньше и встретят вас на месте.
Это был, разумеется, обман. Но обман гениальный. Он очень облегчил задачу конвоиров: все были готовы покорно и терпеливо ехать туда, где семьи вновь соединятся.
О НЕУДОБСТВАХ И ЛИШЕНИЯХ НЕВОЛИ
Чертовски неприятно, когда запястья прижаты вплотную одно к другому. Я и золотой браслет, подарок бабушки, никогда не носила за его сходство с кандалами.
* * *
В этом куске хлеба была жизнь, или, вернее, более медленный путь к смерти.
Шестьсот семьдесят граммов — это не так уж мало. Если бы только не это убийственное однообразие! Хотя человеческий организм — очень тонко устроенная живая лаборатория, но все же из одного хлеба, в котором к тому же было очень много соломы и воды, невозможно изготовить все необходимое для создания и поддержания живых клеток организма: белки, жиры, углеводы, витамины, ферменты… Даже если есть этот хлеб, как говорится, от пуза, и то организм со временем ощутил бы острую недостачу белков, витаминов, ферментов, а это, в свою очередь, помешало бы усвоить с пользой углеводы. Ведь мы были лишены возможности грызть кору деревьев, есть «гнилушки», траву, корни, листья. Эти добавки к горсти муки дают возможность человеку извлечь из нее все, что она может дать. Когда же питаешься только хлебом, и притом впроголодь, то образуется своего рода заколдованный круг: истощенный организм не в состоянии усвоить хлеб, а организм, неспособный усвоить хлеб, истощается. Атрофируются слизистые оболочки желудка и кишечника, «ворсинки» перестают всасывать хилус — питательные вещества, приведенные в такое состояние, когда они могут поступать в кровь и оттуда — в живые клетки организма.
Итак, кишечник не может использовать пищу, и она извергается наружу. Это и есть голодный понос. Жидкие каловые массы раздражают истонченные стенки атрофированного кишечника, отсюда — слизистый стул, а затем и кровавый. Это уже голодный гемоколит, который легко принять за дизентерию, хотя дизентерийные микробы отсутствуют. По мере истощения, которое неустанно прогрессирует, образуются безбелковые отеки. Развивается самый ужасный вид авитаминоза — пеллагра.
О СИБИРИ
* * *
…я увидела то, что в Сибири называется «выстойка». Потную, тяжело водящую боками лошадь (расседланную, необтертую, ничем не укрытую) привязывают коротко, высоко задрав ей голову. И так, привязанную к дереву, оставляют часа на два! Она стоит вся заиндевевшая, кучерявая от мороза. На морде намерзает борода и сосульки. Лишь после такой выстойки лошадь поят, кормят и иногда вводят в стайку, хотя сама стайка — несколько досок — не меняет положения. И сибирские лошади просто на удивление крепки, выносливы и бесстрашны. Говорят, благодаря выстойке. Уж не оттого ли сами сибиряки до того крепки и упорны, что сами они на каждом шагу подвергаются подобной же «выстойке»? Не раз задумывалась я над этим вопросом…
* * *
В сущности, в русскую рубленую избу вошла я впервые: те избы, в Кузедеве и Бенжарепе-втором, я видела лишь мельком, главным образом снаружи. Избегая клопов, я ночевала в кузнице, на горне. Здесь же, в Харске, зимой пришлось в этой избе жить. Черные, прокопченные стены и еще более черный потолок. Смрад, спертый воздух. Непроходимое невежество и непроглядная, но уже привычная нужда обитателей. И — тараканы. О клопах я не говорю. В том, что они вездесущи, я уже убедилась.
Короче сказать, впечатление был кошмарное: темно, грязно, воняет и все копошится и шуршит. И на этом фоне, кроме нас троих, хозяева: Иван, его жена Фрося, двое дочерей лет восьми-десяти и младенец Николай.
Как-то, еще в Анге, одна из дочерей Лихачева сказала:
— В Усть-Тьярме хорошо! Живешь в бараке — своя койка, тумбочка на двоих. Житуха! А вот когда расселяют по квартирам, как, например, в Харске, — ох не люблю! Нет хуже квартир!
Но у меня к баракам было какое-то отвращение: всегда в толпе, на глазах у всех: что-то от казармы и от стада. На квартире, казалось, лучше, все-таки в семье. Вот в Харске мне пришлось пересмотреть свои взгляды и отказаться от предубеждений. Спору нет, плохо в бараке, но на квартире хуже.
* * *
Мы, рабочие, тоже считались з/к, но для нас это слово расшифровывалось иначе — «заполярные казаки».
В царское время казаки с гордостью говорили:
— Граница империи Российской привязана к арчаку казачьего седла!
С не меньшим правом, хотя и без особой гордости, могли сказать и мы, «заполярные казаки»:
— Граница, по крайней мере северная, привязана к хлястику телогрейки заключенного!
Не найти такой необжитой, угрюмой сторонки, где заключенные, замостив своими костями болота, не добывали бы из недр земли несметные богатства.
Мурманск, Воркута, Норильск, Магадан, Колыма — все это поднято из болот «заполярными казаками». Могилы их, огромные братские могилы, вырытые еще летом «про запас» в тундре, ничем не отмечены и никем не помянуты. Теперь их вообще вычеркнули из истории северного края. По «новейшим данным», его освоили энтузиасты-комсомольцы!
* * *
Страх, предательство и пресмыкательство — это и есть три кита, на которых зиждется незыблемость нашего строя! Это обязательно для всех вообще; для начальника же (к тому же дважды начальника: ЦБЛ и лагпункта) это было conditio sine qua non (непременное условие (лат.)). А в 1947 году, когда в Европе трещали все подпорки, на которых мир пытался сохранить равновесие, и вновь вырисовывался призрак 1937 года, не отречься от мужа — это был героизм.
ОБ ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ
Вот сцена, которую я наблюдала, притом неоднократно. Садится колхозник верхом на скамейку и начинает жадно чавкать. Как ни урезает себя во всем мать, а Потапка голоден. Казалось бы, вполне естественно для голодного ребенка подойти к тому, кто ест, чтобы тоже поесть. Но он знает: никто ничего ему не даст. Он не может еще сформулировать фразу «человек человеку волк», но уже чувствует эту горькую истину. С тоской глядит он на чавкающего дядю. Даже не подходит, а, напротив, отворачивается и сперва идет, а затем бежит к матери и, лишь зарывшись лицом в ее юбку, судорожно и неутешно плачет…
* * *
Я встречала мало людей, и встречи были короткими. Жизнь людей нарымской тайги мелькала передо мною, как пейзаж при свете молнии: ярко, но пристально присмотреться — некогда.
Это был поединок с голодом, холодом, усталостью. Людей я встречала разных и хоть мельком, но кое-какие наблюдения все же сделала.
В дальнейшем я чаще встречалась с людьми и убедилась, что в этих встречах больше опасностей, чем во встречах с грозной, беспощадной, но справедливой природой. В борьбе с природой побеждает мужество, с людьми нужна хитрость. А значит, в этой борьбе я безоружна.
 Евфросиния Керсновская с мамой Александрой Алексеевной.
Евфросиния Керсновская с мамой Александрой Алексеевной.Ессентуки, 1958 год
* * *
Говорят, обезьяны, помещенные в клетку, утрачивают нормальный, свойственный всему живому инстинкт воспроизведения рода и превращают его в какую-то нездоровую гипертрофированную похоть. Заключенные в лагере следуют их примеру.
Впрочем, это не совсем так: истощенное животное отнюдь не стремится совокупляться. Инстинкт подсказывает ему, что деторождение ни родителей, ни плод к добру не приведет. У заключенных и речи нет о деторождении! Все у них клином сошлось на одном: удовлетворить любой ценой свою похоть.
* * *
Дружба — одно из самых прекрасных, а может быть, и самое прекрасное из чувств, на которое способен человек.
Дружба чище и бескорыстнее любви, влекущей друг к другу мужчину и женщину. Может быть, дружба выше материнской любви, так как в ней нет ослепления и предвзятости.
Дружба — это редкость. Все очень ценное редко. Наверное, потому так редко встречаются алмазы. Дружба должна быть и крепкой, как алмаз, и светится она тем же чистым светом — как бриллиант.
Настоящая дружба может завязаться только в юности, пока душа чиста. Лишь такая дружба выдерживает все испытания, в том числе и испытание временем.
Существует ли лагерная дружба? Нет и тысячу раз нет!
Я даже сомневаюсь в существовании фронтовой дружбы. Дружба может вспыхнуть лишь в чистой душе. А душа тех, кто призван быть убийцей, укрыта чехлом кровавого цвета.
Но там, где невозможна истинная дружба, все же благожелательное отношение и стремление помочь вполне возможны.
О ПИЩЕ
Передо мной куча мусора — крошки. Но, Боже мой, чего только там, кроме крошек, нет! Даже на меня сомнение напало. Что там был сухой березовый лист от банных веников, мелкий самосад и, разумеется, пыль — это бы еще полбеды. Хуже, что первое место в ряду этих примесей занимали тараканы! Сушеные и мелко накрошенные тараканы.
Тараканы во всех видах вызывают у меня непреодолимое отвращение! Но как отказаться от хлебных крошек!
Голод — беспощадный диктатор, и его воля — закон. Я надеялась, что сумею отделить крошки от тараканов, но — увы… Ни отвеять на ветру, ни отмыть их водой не удалось. Пришлось, поборов брезгливость и отвращение, съесть все подряд. И все же дня два я была не слишком голодной.
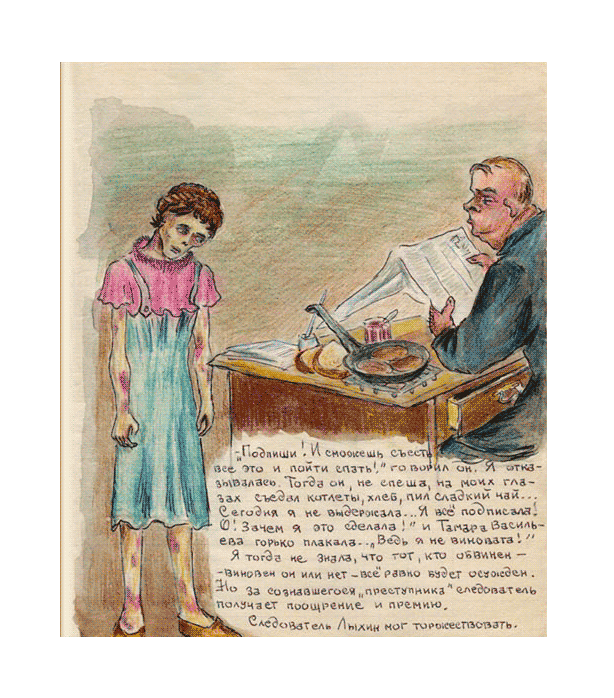 * * *
* * *
Прошлогодний гриб-дождевик. Это далеко не лакомство для гурмана, но…
Гриб (или, верней, остаток того, что было грибом) был большой, но от него осталась только шкурка, напоминающая старую замшу, а внутри что-то с виду похожее на горчицу и немного сухих спор. И все же я съела его с большим удовольствием и почувствовала еще более мучительный, раздирающий внутренности голод.
* * *
В траве — мертвый селезень-крыжень. Хотя сороки уже успели расклевать его внутренности, но он совсем свежий, даже не окоченевший!
Рюкзак летит в одну сторону, палка в другую. Прыжок — и я ринулась прямо на свою добычу, как будто сорока могла у меня отнять ее! Дрожащими руками хватаю я селезня и прижимаю его к себе, готовая защищать свое право на него.
Если кто-нибудь желает знать, чего не может съесть голодный человек, то могу сказать: я не могла съесть клюв, когти и маховые перья. Кости я раздробила, изгрызла и съела. Осколки ранили мне рот, я глотала их вместе со своей собственной кровью.
* * *
Тема разговора у нее была одна: какую снедь можно приготовить из разного рода эрзацев, когда нет муки, чтобы было вкусно и выглядело аппетитно. Компоненты — все то, что растет на приусадебном участке и на что государство не может полностью наложить руку: картошка, тыква, репа, брюква, турнепс, лесная ягода и грибы, с некоторой долей пшена и творога. Богатая фантазия компенсировала бедность кулинарного арсенала!
Я замечала, и тогда, и позже, что такого рода словесный онанизм на голодных заключенных действует гибельно — физически и морально.
* * *
У нас в мирное время, уже через 25 лет после войны, на целинных землях даже пшеница в буртах гниет по причине бесхозяйственности, поэтому легко себе представить, что получилось из грибов, которых в огромном количестве доставили во двор столовой и свалили под открытым небом — вроде бы заскирдовали. Они превратились в гниющую кучу черной слизи, распространяющую невыносимый смрад… Эту вонючую массу набирали вилами в ведро, заливали кипятком и приносили в тюрьму, где и раздавали нам по кружке. Надо признаться, что никто из женщин, кроме меня, не мог съесть эту вонючую, черную, горьковато-кислую жижу, иногда и не посоленную.
DIY-ЛАЙФХАКИ
Южнее Новосибирска начинаются степи, и в местностях, удаленных от железной дороги, с топливом вопрос стоит остро: ни дров, ни угля и в помине нет. Солома? Нет, солома сгниет или ее сожгут, но своим колхозникам соломы колхоз не даст.
Единственное топливо — это кизяки. На изготовление этого ароматного топлива идет любой навоз, но преимущественно коровий.
Сначала навоз надо вымесить ногами до однородной массы, а затем, напрессовав его в мокрую форму — ящик без дна, — вытряхнуть сразу пару кирпичей-кизяков.
Сушить их надо, переворачивая, а затем сложить в пирамиды. Для удобрения навоз не используется: в тех краях чернозем и без того богатый
О СЕБЕ
…на фоне горя тех, кто бессилен помочь своим погибающим в страданиях близким, я счастлива, так как страдаю одна.
* * *
Я могу не одобрять вашей системы, могу возмущаться несправедливостями, ею порожденными, но я — русская и причинять вред моей родине, особенно в такое время, как сейчас, для меня так же невозможно, как поднять руку на родную мать!
* * *
1 640 трупов прошли через мои руки. И все-таки, а tout prendre, именно этот год с небольшим, что я проработала в морге, был, повторяю, самым беззаботным, самым, я бы сказала, человечным из всех лет неволи.
 Ефросинья Керсновская в год своего пятидесятилетия. Ессентуки, 1957 год
Ефросинья Керсновская в год своего пятидесятилетия. Ессентуки, 1957 годМожет быть, я — чудовище? Не думаю. Скорее всего, причины подобной аномалии были таковы: во-первых, в морге я видела результат, когда сами страдания были уже позади (вроде разницы между событием и описанием события); во-вторых, ничто там не напоминало, ежедневно и ежечасно, что я раб. И еще (а это главное): там господствовало равенство.
О БЫТЕ В НЕВОЛЕ
Внутренняя (смысл этого слова для меня так и остался непонятным) тюрьма НКВД — самая усовершенствованная во всей Сибири. Сидят здесь исключительно политические. Режим рассчитан на то, чтобы люди сознались, в чем бы их ни обвинили, или — сошли с ума. Был еще третий выход — умереть.
В 6 утра — подъем; в 10 вечера — отбой. Днем нельзя ни лечь, ни прислониться, ни повернуться спиной к волчку (даже если ночью во сне повернешься — разбудят и заставят вновь повернуться к нему лицом). Допросы обычно по ночам. Весь день ждешь прихода ночи. И не только. Ждешь раздачи хлеба и кипятка, ждешь оправки, визита врача, прогулки, обеда. Но ни на минуту не забываешь, что наступит ночь и с ее наступлением допрос, который иногда длится от отбоя до подъема.
* * *
Параша… Обычно это ведро. Вернее — смрадная бадья. Но здесь, когда в одной камере человек 300, а то и больше, это бочка ведер в 20–25, куда выливают быстро наполняющееся ведро. Но это еще не все. Параша — это символ тюремной солидарности и угроза нарушителю тюремного закона. Незадолго до моего прибытия на эту пересылку, там произошла очередная расправа. Какая-то женщина наябедничала — выдала, где блатные прячут нож. Утром ее нашли мертвой: ее утопили в параше. Виновных не нашли — все 300 человек ничего не видели. Иначе, в какую бы отдаленную тюрьму их не отправили, они бы не ушли от тюремного закона. А этот закон пощады не знает.
* * *
Разумеется, очень неприятно смотреть, когда покойников — худых, голых, окоченелых — сбрасывают, как дрова, в ящик, да еще «валетом». Но, по существу, это к их страданиям ничего не прибавляет.
Другое дело — живые люди. Еще живые. Но такие же худые, серые… Только — еще не окоченевшие. Их заталкивают в одну палату, независимо от того, чем они больны: пневмония ли, операция ли какая, травма, гепатит, дизентерия или даже тиф. Их запирают на ключ и только два раза в день водят в нужник… Это отвратительно! Но так приказали «свыше» обращаться с КТР… Что это такое? Картежники? Нет! Это каторжники.
(Прим. ред.: По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года восстановлена каторга для осужденных «за измену Родине».)
* * *
В лагере человеческих прав нет. Нет даже права, в котором не отказано животному: права рожать детей. Но они рождаются… Где, как, от кого они зачаты? Вариантов может быть несчетное множество. Реже всего в этом замешана любовь. Любовь боится разлуки, а в лагерных условиях беременность — это разлука, и обычно навсегда.
Женщины и дети. Эти два слова всегда рядом. Где женщина, там и ребенок. Маленький, беспомощный «пеленашка»; или тот, кто тянется к ней ручонками, лепеча «мама»; или бежит с ревом, ища спасения от всех бед в ее юбках; или тот, кто уже умеет думать и твердо знает, что самый дорогой, самый умный человек на свете — мама. Даже когда уже есть свои дети, то все равно самый искренний совет, самую бескорыстную помощь можно ждать от того человека, который зовется «мама».
Но лагерные матери — не мамы, а мамки. И это нечто совсем иное!
Спору нет, бывают женщины, которые не могут сказать ребенку: «Вот твой папа!». Но обычно такая женщина, отдавая свою любовь человеку, верит, что их жизненные пути сольются и что ее ребенок с полным правом возьмет за руку отца и скажет: «Папа!».
Единственный выход из положения — это аборт. Хотя в те годы он рассматривался как убийство и карался десятью годами лагеря, женщины шли на это и истекали кровью, умирали от сепсиса, становились калеками, делая аборт самым варварским способом — жгутом, свернутым из газетной бумаги, обмотанной ниткой…
Рожали обычно те, кто предпочитал быть мамкой, не работать.
* * *
Череп, в пяти местах пробитый кайлом, — результат картежного азарта. Проигравшийся урка играл… на свою собственную голову — по удару кайлом на ставку, но ему не везло: пять ставок было бито и пять ударов кайлом по черепу ему нанесли его товарищи-картежники. А вот кочерга — ее вынули из внутренностей другого азартного картежника. Он проиграл, и по условию игры ему эту кочергу затолкали в задний проход. Удивительнее всего то, что незадачливого игрока все же удалось спасти, заштопав его потроха.
Вообще, последствия азартных игр были неплохо представлены в морге.
gorky.media
 О психическом здоровье есть множество мифов. Одни говорят, что только безумцам снятся цветные, яркие сны; другие уверены, что человек в норме не может слышать несуществующие звуки… Так ли это на самом деле? Не так, считает практикующий невролог Элиэзер Штернберг. Иногда мозг совершает непостижимые, казалось бы, трюки — ради нашей же безопасности. Автор разъясняет механизмы многих странных эффектов центральной нервной системы. Например, в какой ситуации и как слабовидящие и незрячие могут видеть окружающие объекты и красочные сюжетные сны; как люди превращаются в зомби; почему и где конкретно в нашей голове живёт Люк Скайуокер. «Кот Шрёдингера» публикует короткий фрагмент этого замечательного рассказа о причудах и чудесах в работе мозга. Непременно прочитайте его целиком, не пожалеете.
О психическом здоровье есть множество мифов. Одни говорят, что только безумцам снятся цветные, яркие сны; другие уверены, что человек в норме не может слышать несуществующие звуки… Так ли это на самом деле? Не так, считает практикующий невролог Элиэзер Штернберг. Иногда мозг совершает непостижимые, казалось бы, трюки — ради нашей же безопасности. Автор разъясняет механизмы многих странных эффектов центральной нервной системы. Например, в какой ситуации и как слабовидящие и незрячие могут видеть окружающие объекты и красочные сюжетные сны; как люди превращаются в зомби; почему и где конкретно в нашей голове живёт Люк Скайуокер. «Кот Шрёдингера» публикует короткий фрагмент этого замечательного рассказа о причудах и чудесах в работе мозга. Непременно прочитайте его целиком, не пожалеете.


 В
В 