 Известно, что самоубийства являются одним из главных вызовов для современного здравоохранения. Более 800000 людей погибают в результате суицида каждый год, и примерно в 20 раз большее число людей совершает суицидальные попытки. Суицидальный риск представляет из себя очень сложную систему, включающую в себя как биологические, так и психосоциальные и культуральные факторы. Тем не менее, несмотря на колоссальную общественную и экономическую важность проблемы суицидов, биологический субстрат суицидального поведения все еще не определен.
Известно, что самоубийства являются одним из главных вызовов для современного здравоохранения. Более 800000 людей погибают в результате суицида каждый год, и примерно в 20 раз большее число людей совершает суицидальные попытки. Суицидальный риск представляет из себя очень сложную систему, включающую в себя как биологические, так и психосоциальные и культуральные факторы. Тем не менее, несмотря на колоссальную общественную и экономическую важность проблемы суицидов, биологический субстрат суицидального поведения все еще не определен.
На сегодняшний день, на основании результатов GWAS-исследований (Genome-Wide Association Study, полногеномный поиск ассоциаций) не удалось обнаружить выраженные ассоциации полиморфизмов каких-то определенных генов с СП. Из этого можно сделать вывод, что суицидальный риск крайне полигенный по своей природе и что генетические вариации объясняют лишь малую часть наблюдаемых фенотипических вариантов. Известно, что на суицидальный риск влияют влияют такие «небиологические» факторы, как окружение, образ жизни, степень развития психологических механизмов совладания со стрессом (копинг-механизмов). Однако благодаря последним достижениям молекулярной биологии нам теперь известно, что в нашем организме имеется некая нить, связывающая условно «биологические» (генетические) и «небиологические» (психосоциальные, средовые) факторы. Этой нитью являются эпигенетические процессы, позволяющие изменять экспрессию определенных генов в определенных клетках и тканях нашего организма в ответ на изменения факторов внешней среды. В настоящее время опубликовано достаточно большое количество исследований, посвященных роли метилирования ДНК и других эпигенетических процессов в развитии различных психических заболеваний и состояний, в том числе, и в возникновении суицидального поведения. Но, к сожалению, основным ограничением исследований, посвященных метилированию ДНК в тканях головного мозга суицидентов, являются довольно маленькие выборки в силу труднодоступности необходимых биологических образцов. Кроме того, большая часть подобных исследований фокусировалась на конкретных генах-кандидатах, и лишь небольшое число работы было посвящено изменениям метилирования ДНК на уровне целого генома. Чтобы обойти эти ограничения и получить достоверные результаты Policicchio et al. провели мета-анализ полногеномных исследований метилирования ДНК в тканях головного мозга совершивших суицид.
Авторы сконцентрировались на двух областях головного мозга – префронтальной коре (prefrontal cortex, PFC) и мозжечке (cerebellum, CER) в силу имеющихся данных о вовлеченности данных областей в процессы формирования суицидального поведения. В качестве группы сравнения во включенных в анализ исследованиях были выбраны погибшие внезапной смертью лица без задокументированной истории наличия того или иного психического заболевания или суицидального поведения. Для каждой из двух областей мозга был проведен отдельный мета-анализ. Всего, таким образом, в мета-анализ по PFC вошло 4 когорты пациентов (n=211), по CER – 3 когорты (n=114). Кроме того, во второй части работы Policicchio et al. сравнивали эпигенетические изменения также между суицидентами (n=80) и лицами, страдавшими при жизни психическими расстройствами (шизофрения, депрессия и биполярное расстройство), но не имевшими задокументированных свидетельств выраженного СП (n=50).
Для начала авторы исследовали точечные различия в метилировании каждого CpG-сайта (CpG-сайтом называют участок последовательности ДНК, где за цитозином идет гуанин; именно по данным участкам и метилируется ДНК), то есть, определяли DMP (differnetialy methylated positions). Авторы обнаружили в PFC значимый DMP, расположенный в интронной части гена ELAVL4, который у суицидентов метилируется значительно меньше, чем в группе контроля (p=3,30E-08). Ген ELAVL4 играет значимую роль в процессах трансляции и стабилизации мРНК, особенно в клетках головного мозга, являясь, таким образом, негативным регулятором пролиферации, дифференцировки и активности стволовых нервных клеток. Известна также связь изменений активности этого гена с болезнью Альцгеймера, шизофренией и аутизмом.
При исследовании мозжечка авторы обнаружили 6 значимых DMP. Наиболее значимым (p=3,06E-11) оказалось различие в метилировании участка экзона 1 гена PUS3. Данный ген кодирует фермент, ответственный за посттранскрипционную обработку тРНК, а также ассоциирован с задержкой умственного развития и другими нарушениями развития нервной системы. Другие DMP также находились в непосредственной близости с генами, ассоциированными с различными психиатрическими фенотипами, к примеру, с геном ZIC1, играющим важную роль в развитии мозжечка, или с геном RASD2, модулирующим дофаминергическую нейротрансмиссию. Кроме того, один из DMP оказался расположен в 5’-НТО (5’-нетранслируемая область – участок ДНК, соответствующий одноименному участку мРНК, расположенному перед кодирующей областью и ответственному за регуляцию процессов трансляции) гена IRF2 (регуляторный фактор интерферона 2). Этот участок ответственен за регуляцию экспрессии генов, вовлеченных в процессы воспаления и иммунного ответа в головном мозге. Эта находка является еще одним подтверждением роли иммунологических процессов в развитии психической патологии и суицидального поведения в частности.
С учетом того, что в одном гене может находиться несколько расположенных рядом СpG-сайтов, показатели метилирования которых часто коррелируют, авторы провели также региональный анализ изменений, выявляя тем самым изменения не по отдельным «точкам» – DMP, а по целым участкам ДНК – DMR (differentially methylated region). При помощи данного метода авторы обнаружили 3 и 8 DMR в PFC и в мозжечке соответственно. Наиболее достоверным DMR в PFC оказался участок интрона 1 гена WRB, все 5 CpG-участков которого были гипометилированы у суицидентов по сравнению с группой контроля. Последние исследования предполагают роль кодируемого этим геном белка Wrb в фоторецепторной синаптической передаче у модельных рыбок данио-рерио (zebrafish). Кроме того, в мышиных моделях когнитивных нарушений при синдроме Дауна экспрессия этого гена была изменена. Все это свидетельствует о роли гена WRB в развитии и функционировании ЦНС. Другой достоверный DMR был обнаружен возле промоторного участка гена PSORS1C3. Хотя роль этого гена не до конца ясна, предполагается, что он регулирует экспрессию близлежащих генов, связанных с иммунитетом, а также является возможным геном, ассоциированным с риском развития псориаза. Чтобы дополнительно исследовать роль этого DMR, авторы дополнительно исследовали экспрессию PSORS1C3, а также близлежащего гена POU5F1. Авторы не обнаружили значимых изменений в экспрессии этих генов у суицидентов по сравнению с группой контроля. Ученые предполагают, что, по всей вероятности, изменению экспрессии подверглись иные гены, либо затронули ранее неизвестные альтернативные сплайсинговые варианты мРНК соответствующих генов. Наконец, третий DMR был обнаружен в промоторном регионе гена LGALS1, расположенного на 22-ой хромосоме и играющего роль в регулировании иммунных процессов. Примечательно, что изменения метилирования этого участка ДНК ассоциированы с развитием шизофрении.
В мозжечке наиболее значимым DMR оказался участок интронной последовательности гена CERC2. Все 4 CpG данного региона гиперметилированы у суицидентов по сравнению с группой контроля. Этот ген вовлечен в регулирование экспрессии циклина Е (одного из ключевых ферментов, участвующих в регуляции клеточного цикла) в пролифирирующих клетках. Интересно, что ранее в литературе не встречались указания на ассоциацию экспрессии этого гена с суицидальным поведением. Другим интересным DMR оказался участок экзона 10 гена SLC44A4, раннее исследовавшийся в контексте связи особенностей главного комплекса гистосовместимости и риска развития шизофрении. Другой DMR был обнаружен в экзоне 3 гена WWTR1, транскрипционного коактиватора, ассоциированного, в том числе, и с поддержанием жизнеспособности нейронов. Более того, в одном из GWAS, посвященных психическому и моторному развитию младенцев, была показана связь между миссенс-вариантом этого гена и когнитивным дефицитом. Примечательно, что еще один DMR оказался расположен в гене MED13L, ассоциированного с задержкой интеллектуального развития и, следовательно, также играющего важную роль в развитии нервной системы.
Чтобы проверить, являются ли обнаруженные изменения специфическими именно для завершенного суицида, либо является следствием имеющихся аффективных и психотических расстройств, авторы провели дополнительное сравнение особенностей метилирования ДНК в мозжечке у суицидентов и у лиц с психиатрическими диагнозами, погибших без предшествующего суицидального поведения. Авторами было обнаружено, что выявленные DMP, по большей части, специфичны именно для суицида самого по себе и не связаны с коморбидными психическими заболеваниями. К сожалению, из-за ограничений выборки, авторам не удалось провести подобный анализ для PFC.
Стоит отметить, что Policicchio et al. были получены убедительные доказательства специфических для суицидального поведения особенностей метилирования ДНК, ассоциированных, главным образом, с генами, регулирующими развитие центральной нервной системы и имунный ответ в тканях головного мозга. Таким образом, данное исследование можно рассматривать как первый шаг к определению специфических эпигенетических биомаркеров такого комплексного явления, как суицидальное поведение, вне его связи с определенными психическими заболеваниями.
Автор перевода: Кибитов А.А.
Источник: Policicchio, S., Washer, S., Viana, J. et al. Genome-wide DNA methylation meta-analysis in the brains of suicide completers. Transl Psychiatry 10, 69 (2020). https://doi.org/10.1038/s41398-020-0752-7
http://psyandneuro.ru
Метка: симптомы депрессии
Myönteiset tunteet omaa vauvaa kohtaan lisääntyvät, kun masentunut äiti saa jo raskausaikana tukea vuorovaikutukseen.
 Arviolta noin viidennes odottavista äideistä kärsii raskauden aikana lievistä tai keskivaikeista masennusoireista.
Arviolta noin viidennes odottavista äideistä kärsii raskauden aikana lievistä tai keskivaikeista masennusoireista.
Äitien kyky ymmärtää omaa vauvaansa ja vastata lapsen tarpeisiin lisääntyi, kun äidit osallistuivat vuorovaikutusta tukevaan ryhmään.
Ilo syntyvästä lapsesta ja omasta vanhemmuudesta voi vähentyä, jos äidillä on raskausaikana masennusoireita.
Arviolta jopa parikymmentä prosenttia tulevista äideistä kärsii raskauden aikana lievistä tai keskivaikeista masennusoireista. Jo odotusaikana syntyy kuitenkin pohja äidin ja vauvan suhteelle.
– Äidin on vaikeampaa kuvitella tulevaa äitiyttä ja vauvaa. Kiintymisen tunteita on vähemmän, samoin ajatuksia siitä, että on ihanaa odottaa vauvaa, post doc -tutkija, psykologi Saara Salo Helsingin yliopistosta sanoo.
Raskaudenaikainen masennus on vahvasti yhteydessä myös synnytyksen jälkeiseen masennukseen. Vauvavaiheessa äidin masennus voi vaikuttaa niin, että vauva saa vähemmän hellittelyä ja esimerkiksi sylissä pitämistä. Sosiaalinen kontakti on kuitenkin vauvan kehitykselle oleellista, ikään kuin sosiaalista ravintoa.
Vanhemman ja vauvan vuorovaikutukseen voidaan kuitenkin vaikuttaa. Saara Salon tutkimuksen perusteella masennusoireista kärsivät äidit hyötyivät äidin ja vauvan vuorovaikutuksen tukemisesta, joka aloitettiin jo raskausaikana.
– Pelkkä mielialaoireiden hoito ei riitä vanhemmuuden tukemiseksi. On tärkeää, että varsinkin vakavammin masentuneet äidit ja isät saavat siihen apua, mutta tuen pitää kohdentua myös vanhemmuuteen, Saara Salo sanoo.
Laulu ja kosketus kehittävät tunnesuhdetta
Tutkimuksessa seurattiin 45 äitiä, joilla oli raskausaikana lieviä tai keskivaikeita masennusoireita. Heistä 24 osallistui uudenlaisiin Hoivaa ja leiki -ryhmiin, joiden tavoitteena on tukea tulevaa vanhemmuutta sekä äidin ja vauvan suhdetta. Loput äideistä osallistuivat tavallisiin neuvolapalveluihin.
Ennaltaehkäisevään ryhmään osallistumisen havaittiin parantavan selvästi äitien kykyä tunnistaa ja vastata vauvojensa emotionaalisiin tarpeisiin. Myönteiset tunteet vauvaa kohtaan sekä kyky ymmärtää omaa vauvaa lisääntyivät. Myös äitien masennusoireilu väheni. Ryhmiin osallistuneiden äitien tilannetta verrattiin vertailuryhmän äiteihin, kun lapset olivat yksivuotiaita.
– Äideiltä tuli myös paljon myönteistä palautetta siitä, että he saivat tavata ja keskustella muiden vastaavassa tilanteessa olevien kanssa, Saara Salo sanoo.
Ryhmien harjoituksissa äidin suhdetta vauvaan tuettiin esimerkiksi laulun, kosketuksen ja vuorovaikutusleikkien avulla. Esimerkiksi laulun avulla luotiin suhdetta vauvaan jo raskausaikana. Ryhmissä myös keskusteltiin esimerkiksi omista äitiyteen liittyvistä tunteista. Lisäksi mukana oli mielialaoireisiin liittyvien keinojen käsittelyä.
Neljän tai viiden äidin ryhmät kokoontuivat noin kymmenen kertaa. Hoivaa ja leiki -ryhmien toiminta alkoi raskauden aikana ja jatkui siihen asti, kun vauvat olivat noin seitsemän kuukauden ikäisiä.
Hyvä vuorovaikutus edistää sekä vauvan että vanhemman hyvinvointia
Alun perin Lahden Diakonialaitoksen hankkeessa kehitetyn hoitomallin mukaisia ryhmiä on tällä hetkellä käynnissä joitakin kymmeniä, esimerkiksi neuvoloissa ja perheneuvoloissa. Ryhmiä on tarkoitus lisätä, ja ohjaajia on jo koulutettu joitakin satoja. Suomessa on kehitetty myös muita samantyyppisiä hoitomalleja.
Saara Salon mielestä varhaisen vuorovaikutustuen mahdollisuuksia pitäisi jatkossa olla tarjolla nykyistä enemmän ja tukea pitäisi kohdistaa juuri niille vanhemmille, joilla on erityinen riski vanhemman ja vauvan vuorovaikutussuhteen ongelmiin.
– Tuen avulla lapsen turvallinen kiintymyssuhde todennäköisesti paranee. Turvallinen kiintymyssuhde on puolestaan kaiken hyvän kehityksen perusedellytys. Myös äitien olo helpottuu, kun suhde omaan lapseen toimii paremmin, Saara Salo sanoo.
Tutkimus on julkaistu Primary Health Care Research & Development -tiedelehdessä (siirryt toiseen palveluun).
Как снизить панику во время карантина.
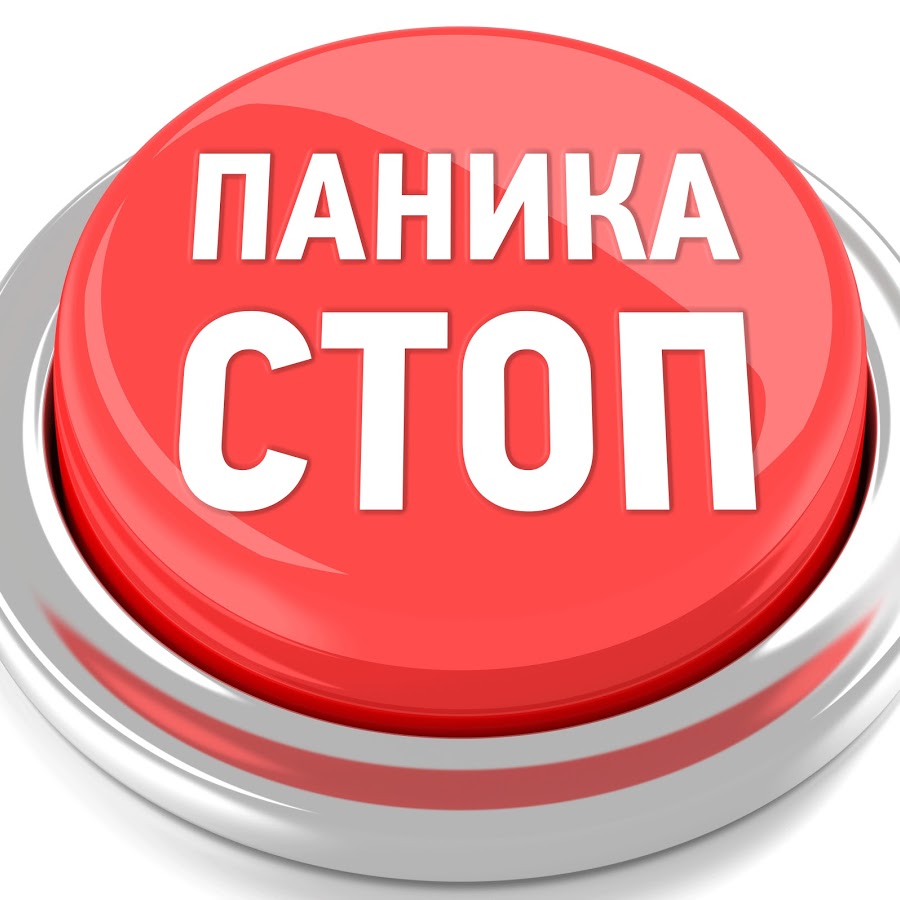 Всеобщая истерия и паника наносит едва ли не больший вред, чем сам коронавирус. Как психолог, даю рекомендации, чтобы меньше бояться. Итак. Почему так много страха?
Всеобщая истерия и паника наносит едва ли не больший вред, чем сам коронавирус. Как психолог, даю рекомендации, чтобы меньше бояться. Итак. Почему так много страха?
