 Отрывок из книги Виктора Франкла о психотерапевтическом методе, в котором делается акцент на поисках человеком смысла бытия
Отрывок из книги Виктора Франкла о психотерапевтическом методе, в котором делается акцент на поисках человеком смысла бытия
О медикаментозной поддержке психотерапии при неврозах [1939]
Бета-фенил-изопропиламин сульфат — препарат, имеющий торговое название «бензедрин», — это эфедриноподобное вещество, воздействующее преимущественно на центральную нервную систему (Принцметал и Блумберг), но практически не влияющее на вегетативную систему (Гуттман); первоначально достаточно успешно применялся для лечения нарколепсии и постэнцефалитного паркинсонизма. Позже предпринимались попытки использовать эйфоризирующий эффект этого препарата, обнаруженный Натансоном, а также Давидоффом и Рейфенштейном при исследованиях на здоровых испытуемых и при лечении депрессивных состояний (Уилбур, Маклин и Аллен). Такие попытки показали, что в случаях с преобладанием психомоторных торможений без тревожного возбуждения примерно в 70% случаев достигается положительный эффект, но лишь на начальных этапах лечения (клиника Майо). Вслед за Гуттманом и Сарджентом Майерсон приходит к следующему выводу: «в определенных случаях невроза, связанных с депрессией, усталостью и ангедонией, а также в определенных случаях психозов такого же общего типа сульфат бензедрина оказывает положительное воздействие».
Наш собственный опыт, связанный с клиническими психозами, позволяет считать бензедрин ценным дополнением к врачебному инструментарию, который традиционно применяется для лечения меланхолии. Ведь при классической опиумной терапии в нашем распоряжении есть средство только для устранения страха, тогда как другой важнейший симптом, торможение, практически не поддается нашему влиянию. Именно эти составляющие комплекса меланхолических симптомов, насколько мы можем судить, дают выборочный ответ на лечение бензедрином. Поскольку в тех случаях, где торможение определяет клиническую картину болезни, оно характеризуется типичными суточными колебаниями с наступлением вечерней ремиссии, при действии бензедрина нам удавалось наблюдать своеобразную антипозицию суточных колебаний (смещение на более ранний срок), когда при утреннем приеме препарата то ослабление меланхолического ступора, которое обычно наступало у пациента лишь к вечеру, иногда наблюдалось еще до обеда. Напротив, воздействие бензедрина на настроение меланхолика, то есть на депрессию как таковую, представляется мне сомнительным; иногда возникает скорее впечатление, что это побочный результат, поскольку в рассматриваемых случаях отпадает реактивный компонент, а именно аффективная реакция на торможение.
Случай 1. Р. С., пациентка 43 лет. Родители — двоюродные брат и сестра. Мать отличалась педантичностью и вспыльчивостью; старший брат педантичен и чрезмерно самокритичен, по всей видимости, страдает навязчивым повторением и частым ощущением, будто он что-то потерял. Младший брат банально «нервозен». Сама пациентка уже в детстве испытывала некоторые симптомы навязчивых расстройств, а в настоящее время — тяжелый навязчивый невроз с навязчивым повторением, на фоне навязчивого мытья. Прошла несколько курсов лечения, в том числе психотерапии; тем не менее состояние больной стабильно ухудшалось, пациентка предприняла даже несколько попыток самоубийства. Она мучается от ощущения того, что еще многого не успела сделать; при этом демонстрирует недостаток чувства очевидности: «Я должна что-то сделать еще раз, хотя и знаю, что уже сделала это как следует». На чувственном уровне она ощущает какой-то нереализованный осадок!
Первым делом такой пациентке рекомендуется научиться различать навязчиво-невротические порывы и здравые намерения, а затем дистанцироваться от невротических проявлений. Позже, оценивая эту дистанцию, она научается словно доводить эти невротические приступы до абсурда, иными словами, лишать их подпитки, например, вот так: «Я боюсь, что недостаточно тщательно вымыла руки? Допустим, они у меня даже не испачканы — а я хочу, чтобы руки стали гораздо грязнее!» Вместо того чтобы пытаться побороть импульсы навязчивого невроза (всякое действие вызывает противодействие!) — пациентка старается пересиливать неврозы, переводя их в шутку, что помогает ей дистанцироваться — и преодолевать их. Больная пересматривает все свое мировоззрение: она демонстрирует столь типичное для невротика стремление к стопроцентности, абсолютной надежности в признаниях и решениях, порожденное нехваткой чувства очевидности, глубокой инстинктивной неуверенностью.
Однако поскольку в реальности стопроцентность недостижима, она ограничивается конкретными ситуациями — связанными, например, с чистотой рук, порядком в квартире и т. д. Требуется осознание мозаичности жизни, готовность рискнуть и все-таки совершить поступок, тогда как невроз, напротив, уподобляется футляру, который одновременно представляет собой и бремя, и защиту. Значение последнего аспекта сначала обсуждалось с больной чисто теоретически, а в следующий раз она спонтанно (!) высказалась о своем «подозрении», что иногда невроз служил ей обычной отговоркой. После двухнедельного курса лечения наблюдаются явные улучшения: пациентка все увереннее осваивает технику правильного отношения к навязчиво-невротическим импульсам и научается с полной ответственностью воспринимать если не сами эти импульсы, то свое отношение к ним. Вскоре она также научилась считать свои «триумфы» над навязчиво-невротическими импульсами — в любом случае пока кратковременные и нечастые — более важными, чем дискомфорт, возникающий из-за противодействия импульсам, которые пока остаются неподатливыми. На данном этапе лечения — через три недели после начала курса — пациентка принимает назначенный ей бензедрин.
Пациентка чувствует, что «изменилась» и может «всего достичь». Теперь пациентке рекомендуется разумно использовать тот прилив сил, который обеспечил ей препарат. Можно сказать, что психотерапия позволила ей освоить оружие для борьбы с неврозом, научила ее, как фехтовать клинком. Медикамент же при этом послужил допингом, который дал ей заряд энергии. Стимул, который она получила благодаря бензедрину, должен был подготовить ее к дальнейшему совершенствованию; оказавшись на подъеме, она должна следить за тем, чтобы не утратить приподнятого настроения. Действительно, в течение следующих двух недель лечения, когда она ежедневно принимает одну-две таблетки бензедрина, ей все чаще удается «преодолевать искушение неврозом (например, не поддаваться навязчивому желанию вымыть руки)».
Она даже чувствует, как будто ее невротические представления (например: «у меня слишком грязные руки») стали более расплывчатыми! Наконец, относительный успех сохраняется и тогда, когда она уже не принимает бензедрин; пациентке удается без труда полностью дистанцироваться от навязчиво- невротических импульсов: «Я — здесь, навязчивое желание там. Невроз дает мне приказы, но я не должна им поддаваться; ведь сам невроз не может мыть руки, сделать это, допустить это должна была я…». На данном этапе лечение прекращается по прочим причинам.
Случай 2. Пациент С. С., 41 год. Пришел на прием непосредственно после не увенчавшегося успехом курса психоанализа, либо, возможно, только для консультации, так как через несколько дней должен вернуться на родину (за границу). Из-за неудачного исхода психоанализа, на который пациент возлагал большие надежды, пациент находится в таком отчаянии, что всерьез думает о суициде и уже даже носит в кармане прощальную записку. На протяжении 15 лет пациент страдает от симптомов тяжелого навязчивого невроза. В последнее время у него наблюдается обострение. Складывается картина крайне скованного человека; даже его борьба против навязчивых идей кажется судорожной. Опыт научил больного, прежде всего, тому, что эта борьба, атаки против проявлений навязчивого невроза лишь усиливают расстройство, а значит — и мучения больного. Поэтому он склоняется к тому, чтобы, наоборот, дать волю своему недугу. Уже по причине дефицита имеющегося времени — пациент просто откладывает отъезд на следующий день, еще на день и т. д. — мы с самого начала отказываемся от какого-либо анализа симптомов и стараемся просто изменить его отношение к механизмам невроза.
Бензедрин оправдал себя и в этом случае в качестве усилителя психотерапевтического лечения. Сложилась такая ситуация, как будто я дал пациенту, борющемуся против навязчивых идей, некий подспудный толчок, тогда как ранее, в рамках психотерапевтического лечения, мы дали пациенту оружие, нужное для борьбы с неврозом. В рамках эпикриза также необходимо отметить, что в течение долгого времени после возвращения на родину пациент продолжал переписку с нами и сообщал, что он чувствует себя вполне хорошо, доволен и, даже несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства, по-прежнему сохраняет правильное отношение к приступам навязчивого невроза, усвоенное на психотерапевтических сеансах. Он считает, что такую работу над собой ему облегчает бензедрин, который он продолжает принимать.
Случай 3. Пациент Ф. Б., 24 года. Заикается с детства. Двое родственников также заикаются. Мы научили пациента тому, что речь — это не что иное, как мысли вслух. Он сам должен лишь правильно настроиться на произносимые мысли — тогда речь льется словно автоматически, он может думать о том, что говорит, а не о том, как говорит. С другой стороны, привлечение внимания к форме речи — а не к содержанию мыслей — вызывает, во-первых, стесненность в речи, а во-вторых — невозможность сконцентрироваться на том, о чем думаешь. Предрасположенность к нарушению речи он мог и должен был компенсировать путем соответствующих тренировок, которые были ему назначены в дальнейшем. Пациент должен был расслабляться при помощи упражнений, разработанных И. Г. Шульцем: вдох — громкий выдох — «кушание воздуха» (по Фрёшелю) — речь. Эти упражнения именно в таком порядке больной выполняет и дома. Вскоре он сообщает об успехах: ему удалось добиться правильной установки к речевому акту: «даже без моего желания мне просто говорилось…». Ему было достаточно просто озвучить мысли и заставить рот говорить.
Для борьбы с сохраняющейся общей застенчивостью рекомендуется для начала принять меры против страха говорения и для поддержки общительности как таковой. «Разве кто-нибудь запрещает говорить, если говорить страшно?» При неудачах необходимо рисковать, лишь в таком случае им на смену позже могут прийти успехи, и страх говорения наконец будет подавлен. Даже при игре в рулетку бывают необходимы рискованные ставки, если сумму требуется многократно умножить… На следующем этапе лечения больной уже жалуется на чувство страха, одолевающее его при — кстати, успешном! — вливании в общество; очевидно, теперь он боится последствий контакта с жизнью, потери своей «блестящей изоляции». Он понимает, что теперь на смену иррациональному экзистенциальному страху должно прийти его осознанное преодоление. На данном этапе больному назначается бензедрин.
Случай 4. Пациент Ф. В., 37 лет. Клиническая картина представляет собой состояние депрессии с психомоторным торможением, при этом все остальные аспекты поведения остаются в полном порядке, равно как и ход мыслей. Субъективно пациент чувствует себя заметно больным, также испытывает страх, чувство вины и неполноценности, а также склонность к самобичеванию; галлюцинации не прослеживаются, параноидные идеи — лишь кататимного характера. Предположительно диагноз таков: рецидивирующие приступы депрессии на фоне шизоидной психопатии. Доминирующий симптом в данном случае — деперсонализация; пациент жалуется: «я стал лишь тенью себя прежнего… фата-морганой». Единственная форма бытия-в-мире, которую еще испытывает больной, переживается им как собственная ущербность. «Я угнетен, то есть буквально расплющен: из трехмерного существа я стал плоским, двухмерным». Чувство неполноценности касается в первую очередь переживания побуждений: «такое ощущение, как будто внутри меня заткнули источник, подпитывавший меня жизненной силой». Чувство неполноценности затрагивает и когнитивные акты. «Кажется, что у меня отсутствуют интуитивные мысли, та сфера, которая наполовину хаотична, где что-то приходит в голову случайно».
Далее очень точно описано интенциональное расстройство: «Мне приходится мысленно пробираться на ощупь, как будто я духовно слеп, от одного мысленного образа к другому. Духовно я как будто цепляюсь за них». Далее также описывается расстройство активности в более узком смысле слова: «все, что я делаю, какое-то бесплотное, ненастоящее, такая имитация, как будто я — зверь, который лишь воспроизводит подмеченные ранее человеческие поступки, те, что ему удается вспомнить». Пациент также переживает «ущербный духовный синтез», то есть «чувство полного распада смысла существования» (по Камбриэлю): «Я не испытываю непрерывного хода времени… как будто духовно я состою из кричащих фрагментов мозаики, которые осыпаются, когда между ними не остается скрепляющего раствора… либо как будто я — разорванная нитка жемчуга». Отдельные признания больного указывают на наличие «гипотонии сознания» (по Берце): «я ощущаю вялость, растянутость… как будто я выработал весь ресурс, словно карманные часы, у которых соскочила приводная пружина». Наконец, переживается отчуждение воспринимаемого мира (утрата чувства реальности), в особенности изменение восприятия собственного тела: пациент особенно жаловался по поводу возникающей временами невралгии тройничного нерва, причем не столько на боли как таковые, сколько на то, что они стали восприниматься не так, как раньше. «Моя рука, мой голос кажутся мне чужими. Я словно уже не имею должного отношения к вещи, к предмету, вещи словно перестали быть объектами… все как будто осталось прежним, но в то же время словно отражается в зеркале: стало бледнее, правая и левая сторона поменялись местами». Сам он ощущает себя «скрипкой без деки». Пациент жалуется на чувство «отсутствия субстрата», ранее окружающий мир был красочным, «а теперь стал черно-белым».
Пациенту однократно назначается бензедрин, в порядке эксперимента. Позже он начинает принимать всего полтаблетки после еды, что вызвано возникающими у него неприятными побочными эффектами (артериальное давление по Рива-Роччи 130/90 мм рт. ст., при этом давние функциональные сердечные расстройства!): головокружение, чувство напряжения, давления и т. п., что позже вынудило его отказаться от положительных изменений, которые обеспечивал препарат. Хотя с терапевтической точки зрения данные эффекты можно было только приветствовать, своеобразная психологическая организация данного конкретного пациента тем более примечательна с экспериментальной точки зрения. Больной (мастер самонаблюдения, а также интроспективных формулировок!) смог описать, как — без учета обычно наблюдаемой в таких случаях явной физической и духовной бодрости — «решительно ослабевает» чувство отчуждения воспринимаемого мира, до такой степени, которая оставалась недостижима долгие годы. Мышление стало «гораздо более метким и точным», а сам пациент почувствовал себя «на духовном подъеме — в какой-то мере повысилось присутствие духа». «Улучшение мыслительных способностей» сохранялось на протяжении вплоть до трех часов после приема половины таблетки. Пациент описывает такое состояние «как своеобразное опьянение, как будто у меня открылось второе дыхание… меня словно активировали, я испытывал потребность чем-нибудь заниматься и разговаривать».
Итог
Мнение Шилдера о том, что бензедрин может применяться лишь для симптоматического лечения некоторых неврозов, подтверждается и на основании нашего собственного опыта; речь идет о двух случаях навязчивого невроза, а также об одном случае заикания и об одном случае деперсонализации. Показано, как поддерживающая медикаментозная бензедриновая терапия может дополнять психотерапию, однако при этом медикаментозная терапия играет лишь роль своеобразного временного допинга, облегчающего больному его борьбу, тогда как оружие для этой борьбы пациент уже должен был предварительно получить из рук психотерапевта.
Литература
E. Guttmann, The Effect of Benzedrine on Depressive States. In: Jour. Mental Science 82, 1936, p. 618.
E. Guttmann und W. Sargant, Observations on Benzedrine. In: Brit. Med. Jour. 1, 1937, p. 1013.
A. Myerson, Effect of Benzedrine Sulfate on Mood and Fatigue in Normal and in Neurotic Persons. In: Arch. Neur. and Psych. 36, 1936, p. 816.
M. Prinzmetal und W. Bloomberg, The Use of Benzedrine for the Treatment of Narcolepsy. In: J. A. M. A. 105, 1935, p. 2051.
L. Wilbur, A. R. MacLean und E. V. Allen, Clinical Observations on the Effect of Benzedrine Sulphate. Proc. Staff Meet. Mayo- Clinic 12, 1937, p. 97.
postnauka.ru
 Elämä on ongelma, joka ei ratkea – filosofi varoittaa positiivisen ajattelun riskeistä.
Elämä on ongelma, joka ei ratkea – filosofi varoittaa positiivisen ajattelun riskeistä.
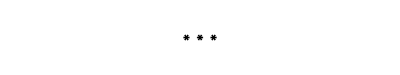
 Живете в большом городе? Что ж, самое время задуматься о списке психических расстройств, наиболее распространенных среди обитателей мегаполисов.
Живете в большом городе? Что ж, самое время задуматься о списке психических расстройств, наиболее распространенных среди обитателей мегаполисов.