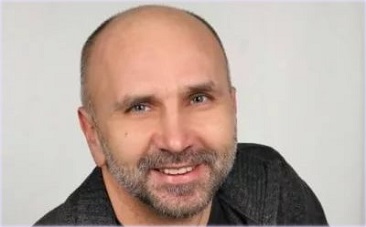 Как помочь клиенту превратить травму в развитие, рассказал Игорь Борисович Канифольский, врач-психотерапевт, автор психотерапевтического подхода, основанного на целостном осознавании, автор метода «Терапия осознаванием», преподаватель Института практической психологии «Иматон». Своим опытом Игорь Борисович поделился на вебинаре «Краткосрочные методы работы с психотравмой. Авторская методика оптимизации осознавания».
Как помочь клиенту превратить травму в развитие, рассказал Игорь Борисович Канифольский, врач-психотерапевт, автор психотерапевтического подхода, основанного на целостном осознавании, автор метода «Терапия осознаванием», преподаватель Института практической психологии «Иматон». Своим опытом Игорь Борисович поделился на вебинаре «Краткосрочные методы работы с психотравмой. Авторская методика оптимизации осознавания».
«Есть точка бифуркации: постравматический стресс или посттравматическое развитие? Человек, который к нам обращается как клиент, уже сделал выбор, он находится в том, что можно назвать посттравматическим стрессовым расстройством.
В защиту стрессового расстройства и реакции клиента хочу сказать, что это можно рассматривать как адаптационные реакции, подобно тому, как температура при болезни является защитной реакцией организма. Но иногда температура настолько зашкаливает, что может убить человека. Точно так же с реакциями на стресс. Все реакции человека являются адаптационными, защитными, но иногда реакция не является продуктивной и вредит самому человеку. Посттравматический стресс – это непродуктивная или недостаточно продуктивная реакция на стресс. Мы можем изменить эту реакцию и превратить её в постравматическое развитие.
Наша основная задача – работать с состоянием человека, и поэтому, если мы слушаем какой-то контент, историю событий, то нам надо понимать, что то, что мы слышим, – это мысли или мыслеобразы клиента по этому поводу. Мы стараемся разобраться не столько в содержании проблемы на бытовом уровне, сколько в состоянии человека, которое лежит за поверхностью. Мыслеобразному ряду на момент терапии сопутствуют эмоциональные реакции, телесные ощущения. И очень важно всё это включать в процесс осознавания.
У меня сложилось такое мнение, что осознавание или самоосознавание клиента – является главным действующим фактором терапии. У человека есть два режима функционирования его сознания: с одной стороны, он погружается в содержание сознания (он знает, где он, кто он, с кем он общается и т.д.), но с другой стороны, у человека есть способность осознавать себя (он осознаёт, какие эмоции испытывает). При осознавании человек не просто с этим соединяется и, исходя из мыслей и ощущений, действует, а именно рефлексирует, отражает. Хитрость в том, что на данный момент знания об осознавании отличаются от тех, что были сто лет назад. Бехтерев даже развивал такую науку – рефлексологию, это было не только о рефлексах, но и о рефлексии, о способности человека себя осознавать.
Психотравма – это нечто, выходящее за пределы ожидаемого, допустимого для человека, запредельное для осознания. В процессе развития человека эта способность осознавать приводит к идентичности, идентификации с его телом. Есть интересные исследования, что младенец в начале жизни не отделяет себя от матери, и постепенно, ощупывая себя, он начинает понимать, что его тело отдельно от материнского. Потом в пять-восемь лет человек испытывает собственные, отдельные от родительского фона эмоциональные состояния, реакции, осваивается с ними. Считается, что в подростковом периоде формируется образ себя, в основном во взаимодействии с социальным окружением. К 21 году формируется ментальный интеллект, способность понимать причинно-следственные связи, анализировать последствия своих действий, ставить цели, продумывать пути их достижения. Понятно, что это не у всех формируется к 21 году, мы всю жизнь развиваемся, мозг развивается неравномерно.
В терапии лучше начинать с запроса клиента: «Что вы хотите получить сейчас от нашей работы? Что вы хотите получить в будущем как результат терапии?». Этим вопросом мы направляем его сознание в посттравматическое развитие, потому что мы спрашиваем о желательном результате, желаемом развитии событий. В этот момент мы приглашаем его к осознаванию своего потенциала.
Нам важно осознавать не только негативные переживания, не только находить эту потерянную часть себя, застрявшую в травме, не только её проживать, не только анализировать причины, нам важно думать с точки зрения потенциала: какой потенциал может открыться в человеке благодаря этой истории? Постравматическое развитие предполагает движение в сторону развития потенциала.
Для посттравматического развития нам нужна хорошая копинг-стратегия. Если человек справляется с острой стадией, находит поддержку в себе или в окружающих, то он получает опыт, который ему на следующей стадии необходимо осознать и сделать из него развивающие выводы. А также через проживание и разделение дать этому опыту развиваться. Это значит, что когда человек проживает свои эмоции и ощущения и разделяет их с другим поддерживающим человеком, например, специалистом, то тогда он меняется не только на уровне выводов, но и в своих ощущениях, в своём проживании бытия. И у него внутри появляется некое другое ощущение себя – большей зрелости, мудрости. Это можно видеть как процесс эволюции.
Это нельзя говорить клиенту на входе и надо быть осторожнее с формулировками, потому что есть травмы очень тяжелые, очень сильные, нам не стоит обесценивать болезненность этого опыта для людей и его катастрофичность. По сути, альтернатива такая: либо мы признаём, что этот опыт, из ряда вон выходящий, с ним ничего не поделаешь и человек обречён быть несчастным, либо мы считаем, что можно прорабатывать этот опыт, выходить в новые состояния.
И получается, что рано или поздно, если травма не ведёт к развитию человека, она приводит к деградации, закрытости, ажитации, отрицанию этого опыта или болезненной фиксации на нём, к ограничивающим выводам о мире, о себе, о людях. Дальше это может привести к невротическим или психосоматическим расстройствам, зависимостям и прочим нарушениям поведения. Если так случается, то сам человек чувствует, что что-то не совсем «окей», и окружающие люди дают обратную связь, что с ним не всё в порядке.
Это важно, потому что из того, что было раньше, получилось то, что есть сейчас. И то состояние, которое было до травмы и кажется хорошим, не оказалось достаточно устойчивым, поскольку травма всё-таки его нарушила или разрушила, и из него получилось нынешнее посттравматическое состояние. Если не ставить вопрос таким образом, получается, что мы стремимся вернуться назад, стереть травматичный опыт. Но в большей части случаев этот опыт надо как-то интегрировать, а значит, он должен обогатить то состояние, которое было до травмы…».
psy.su
 Inka Ikonen, 30, tajusi olevansa masentunut keskellä Thaimaan tropiikkia, juuri silloin, kun kaikki oli hyvin.
Inka Ikonen, 30, tajusi olevansa masentunut keskellä Thaimaan tropiikkia, juuri silloin, kun kaikki oli hyvin.



 Потеря близкого человека — тяжелый опыт. Лечит ли время? Можно ли разработать стратегию возвращения к нормальной жизни? Что помогает пережить горе? Ведущая психологических тренингов Сью Мортон делится своей историей и рассказывает, что помогло ей справиться с потерей отца.
Потеря близкого человека — тяжелый опыт. Лечит ли время? Можно ли разработать стратегию возвращения к нормальной жизни? Что помогает пережить горе? Ведущая психологических тренингов Сью Мортон делится своей историей и рассказывает, что помогло ей справиться с потерей отца.