Невроз развивается в тех случаях, когда рядом с ребенком находится человек, который должен его любить, но не любит в действительности. Он начинается как средство умиротворения невротических родителей путем отрицания или сокрытия определенных чувств в надежде, что «они» наконец полюбят несчастное дитя.
Если ребенку продолжают отказывать в поддержке и любви и у него нет отдушин для выхода боли первичных ран, то этот дополнительный натиск на и без того ослабленное «Я» приведет к формированию сильного нереального «Я», прикрывающего беззащитного ребенка. Впоследствии это нереальное «Я» начинает доминировать, защищая ребенка, но одновременно направляя его к развитию психоза.
Если находится человек, к которому маленький ребенок может обратиться со своими первичными чувствами, человек, который поможет ему понять, что он чувствует, человек, который сможет поддержать его, то велик шанс того, что сознание ребенка не расщепится, и он не станет кем-то другим.
 Первичная боль – это потребности и чувства, подавленные или отринутые сознанием.
Первичная боль – это потребности и чувства, подавленные или отринутые сознанием. Они причиняют боль, потому что им отказано в выражении и удовлетворении. Вся эта боль сводится к следующему утверждению: «Я не могу быть любимым и лишен надежды на любовь, если в действительности стану тем, кто я есть на самом деле».
Когда ребенок еще мал и его организм пока достаточно крепок, он может выдержать очень мощную защиту, сопряженную с весьма большим напряжением. Проходят годы хронического, постоянного напряжения, уязвимые органы и системы не выдерживают нагрузки и начинают отказывать.
Для того чтобы снова обрести цельность, надо почувствовать и распознать расщепление и испустить крик воссоединения, который восстановит единство личности. Чем интенсивнее ощущает пациент расщепление, тем интенсивнее и глубже переживание воссоединения расщепленных частей сознания.
Реально, по-настоящему почувствовать себя отвергнутым означает извиваться от боли во время прихода первичного чувства – значит ощутить себя брошенным, покинутым, нежеланным ребенком. Когда пациент прочувствует это, у него не останется больше чувства отверженности, оно будет исчерпано – останется только чувство того, что действительно происходит в каждый данный момент.
Освобожденный от стыда, вины, отверженности и всех других ложных чувств, он осознает, что эти псевдочувства суть не что иное, как синонимы замаскированного великого первичного чувства отсутствия любви.
Для того чтобы невротик снова обрел способность чувствовать, он должен вернуться назад и стать тем, кем он никогда не был – страдающим ребенком.
Когда устанавливаются связи между разумом и болью, то психосоматические симптомы быстро проходят.
У здорового человека нет фальшивого фасада. Он просто живет и дает жить другим, умеет находить источник радости в самом себе.Он удовлетворен тем, что у него есть, не завидует другим, не хочет того, что хотят они, и не требует для себя того же, чем обладают эти другие. Это значит, что он позволяет другим – своей жене, своим детям, своим друзьям – быть и оставаться самими собой. Он не живет их достижениями и их успехами, не пытается растоптать в них малейшие признаки счастья и радости жизни.
Невротик, беспомощный перед своей первичной болью, часто нуждается в эксплуатации других, для того чтобы ощутить свою важность, которой он иначе не чувствует.
Так как невротик постоянно находится не там, где он есть на самом деле, то он и не может быть довольным в течение какого-то, более или менее продолжительного времени. Настоящее он тратит на то, чтобы изжить прошлое.
Здоровый человек не ищет смысла жизни, ибо смысл этот возникает сам из его чувств.Смысл жизни определяется тем, насколько глубоко человек чувствует свою жизнь (жизнь как свои внутренние переживания).
Отсутствие чувства – вот что разрушает личность и ее представление о самой себе, и, кроме того, отсутствие чувства позволяет разрушать личности других людей.
От кого-то другого мы не можем получить истинного чувства. Сначала мы учимся чувствовать самих себя, а потом мы чувствуем себя, чувствуя других.
Чем ближе становится человек самому себе, тем ближе становится он и другим.
Любовь – это то, что устраняет боль. Можно сказать, что любовь и боль являют собой полярные противоположности.
Любовь – это то, что усиливает и укрепляет ощущение собственной личности; боль же подавляет собственное «Я».
Любить – значит дать другому свободу роста и самовыражения. Решающее условие – оставаться самим собой и разрешить другому вести себя совершенно естественно. Определение любви в рамках первичной теории можно сформулировать так: дать человеку быть самим собой.
 Невротик ищет в любви ощущения собственной личности, каковой ему никогда не позволяли быть.
Невротик ищет в любви ощущения собственной личности, каковой ему никогда не позволяли быть. Он хочет найти такого человека – особого человека, – который научил и заставил бы его чувствовать. Невротик склонен считать любовью все, чего ему недостает, и все, что мешает ему стать цельной личностью.
Истинная любовь имеет место тогда, когда юноша и девушка любят друг друга и принимают такими, какие они есть в действительности – включая и тела друг друга.Невротики же эксплуатируют тела других людей для удовлетворения старых детских потребностей. Это исключает установление равноправных отношений.
Суть заключается в том, что
если вы – невротик, то сможете превратить любого другого человека в то, чем тот на самом деле не является.
Ребенок, воспитанный психически здоровыми родителями, не испытывает потребности идентифицировать себя с ними. Родители не хотят и не требуют этого от ребенка. Напротив, ребенку позволяют обладать теми свойствами личности, которые изначально присущи именно ему.
Если человек, личность чувствует себя, а не занимается символическим разыгрыванием чувств, то вряд ли этот человек будет поступать импульсивно или агрессивно. Диалектика гнева, так же как и боли, заключается в том, что он исчезает только после того, как его прочувствуют.
Невротическая тревожность – это страх оказаться беззащитным перед первичной болью и обидой. Невротическое поведение служит прикрытием боли. На самом деле отвергнута, изуродована и унижена была собственная личность и ее восприятие; поэтому нет ничего удивительного, что человек испытывает страх, когда это чувство становится близким к осознанию.
Невротический страх – это страх потери лжи, в которой постоянно живет невротик. Любая попытка разрушить ложь порождает страх, так как ложь всегда содержит в себе крупицу надежды.
Самый сильный страх больной, проходящий курс первичной терапии, испытывает, когда вся его невротическая игра подходит к концу. Наша цель – пробудить его страх, чтобы подтолкнуть больного к его реальным чувствам.
Единственный способ победить страх – прочувствовать боль и обиду. Страх остается, пока не прочувствована боль.
Невроз – и это стоит хорошенько запомнить – спасает и убивает одновременно. Он защищает реальное «Я», реальную личность от полного распада, но делая это, он погребает спасенную им реальную личность. Ребенок вырастает привязанным к созданной неврозом нереальной личности, которая парадоксальным образом выдавливает из него жизнь.
Чем ближе пациент оказывается к своему чувству, тем ближе становится он к реальности внешнего мира, тем острее будет он вглядываться в других людей, тем глубже будет осознавать социальные феномены. Чем сильнее блокирована внутренняя реальность, тем больше искажено восприятие реальности. Любое продвижение по пути к выражению чувства есть неоценимый дар больному.
Быть реальным – это значит быть спокойным и расслабленным, – у больного исчезают депрессия, фобии и тревожность. Уходит хроническое напряжение, а вместе с ними пропадают в небытие наркотики, алкоголь, переедание, курение, чрезмерная перегрузка на работе. Быть реальным – это значит перестать разыгрывать из своей жизни символическую драму.опубликовано
econet.ru
Автор: Сильва Степанян
 В рубрику Статьи о депрессии
В рубрику Статьи о депрессии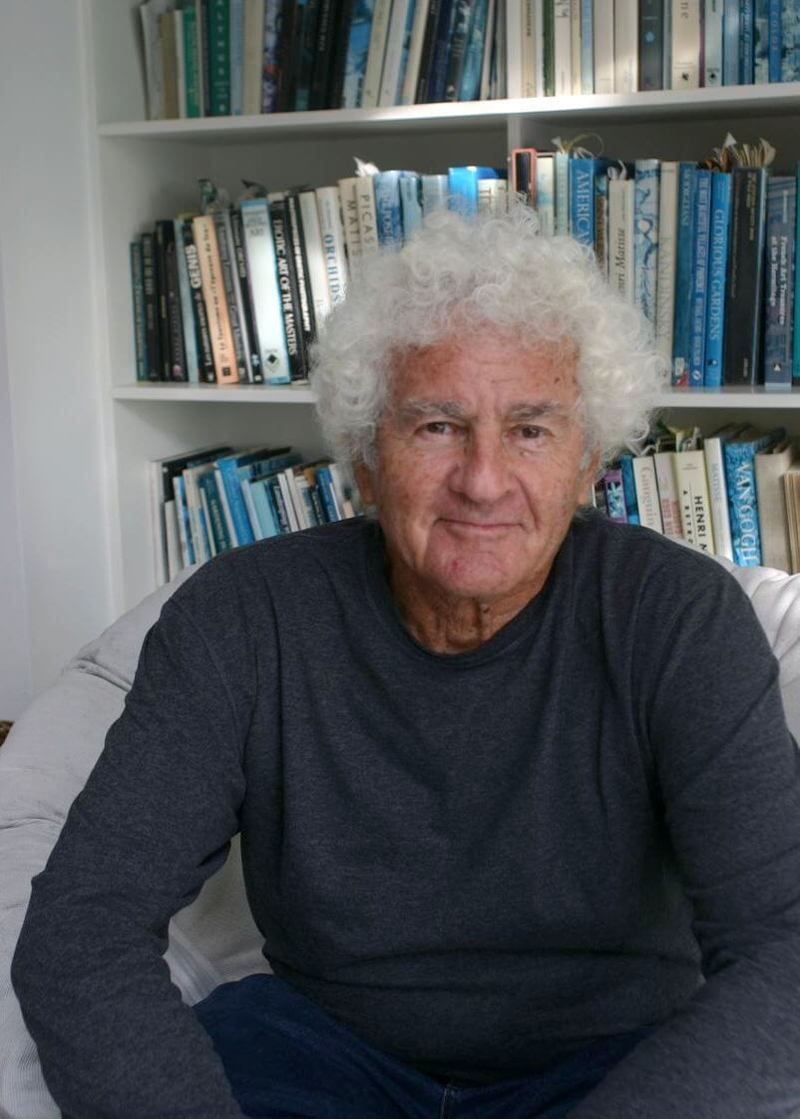


 Läksyihin
Läksyihin