 Nuori opiskelija Tommi Marjanen kyllästyi vaikenemaan masennuksesta. Nyt hän kiertää kouluilla puhumassa aiheesta.
Nuori opiskelija Tommi Marjanen kyllästyi vaikenemaan masennuksesta. Nyt hän kiertää kouluilla puhumassa aiheesta.
Pöydässä istuu suoraryhtinen ja iloisesti hymyilevä kaveri, kädenpuristus on napakka. Pari vuotta sitten tilanne oli toinen.
Helsingin kauppakorkeakoulussa opiskeleva kuopiolainen Tommi Marjanen, 27, sairastui tuolloin masennukseen. Oireet alkoivat kesällä ja seuraava syksy meni maatessa sohvan pohjalla. Energiaa ei ollut mihinkään ja unirytmi meni sekaisin. Opiskelut keskeytyivät ja Marjanen joutui sairaslomalle.
– Kävin syvissä vesissä. Tuntui, että milloin se pohja on saavutettu. En uskaltanut nähdä ihmisiä.
Työterveyspsykologin luona käynti ei tuonut helpotusta Tommin masennukseen. Vasta keskustelut psykoterapiaa opiskelevan ihmisen kanssa alkoivat tuottaa tulosta ja ratkaisukeskeinen terapia auttoi.
Paraneminen alkoi pienistä asioista kuten siitä, että hän pystyi itse valmistamaan itselleen terveellisen aterian. Omasta kunnosta huolehtiminen auttaa myös mielenterveyttä, Marjanen korostaa.
Avautumisia aamubussissa
Tervehdyttyään Tommi alkoi miettiä, miksi mielenterveyteen liittyvistä asioista ei puhuta. Hän halusi tehdä radikaalin teon ja kertoa kaikille asiasta avoimesti.
Ihmiset kysyy sulta, mitä kuuluu ja yleensä vastataan, että ei tässä mitään ihmeellistä. Oikeasti tekisi mieli, sanoa että on tosi paha olla.
TOMMI MARJANEN
Ensimmäisen kerran Tommi avautui kaverilleen uimahallissa. Sen jälkeen hän alkoi jutella myös oudoille ihmisille eri paikoissa. Yksi Tommin lempitapoja oli aloittaa keskustelu bussissa.
– Saatoin avata pelin niin, että sanoin, saanko tehdä jotain epäsuomalaista ja kertoa sinulle jotakin.
Ihmiset suhtautuivat Tommin avoimuuteen myönteisesti ja alkoivat kertoa myös omista tai läheistensä masennuskokemuksista. Moni tuli sanomaan, että hän on tehnyt rohkean avauksen.
Tommin perustama Kerro kaikille -Facebook-ryhmä(siirryt toiseen palveluun) on saanut tuhansia seuraajia ja tarjonnut mahdollisuuden ihmisille kertoa kokemuksistaan.
Nykyisin Tommi kiertää puhumassa kouluilla ja eri tilaisuuksissa siitä, ettei masennusta tarvitse hävetä. Hän on kertonut kokemuksestaan myös Ylen Aamusydämellä-ohjelmassa.
Masennus ei ole teiniangstia
Tommin avoimuus mielenterveyteen liittyvissä ongelmissa ei ole kovinkaan yleistä.
Itä-Suomen yliopistossa viime lokakuussa tehdyn väitöstutkimuksen mukaan nuoret jättävät helposti hakematta ammattiapua ja salaavat masennuksen myös läheisiltään. Masennuksesta kertomisen pelätään aiheuttavan vähättelyä ja tuomitsevaa suhtautumista.
Musta tuntuu, että uusi sukupolvi uskaltaa puhua asioista paljon avoimemmin.
TOMMI MARJANEN
Tutkimuksen tehnyt sosiaalipsykologi Mervi Issakainen kertoo, että nuoren masennus voidaan tulkita esimerkiksi teiniangstiksi ja siten masennuksestaan kertova nuori vain huomionhakuiseksi. Masennus tulkitaan usein myös heikkoudeksi tai laiskuudeksi ja ajatellaan, että ihminen on itse vastuussa masennuksensa päihittämisestä.
Hurjimmillaan mielenterveysongelmista kärsivä saatetaan nähdä arvaamattomaksi ja kykenemättömäksi hallitsemaan itseään.
– Tällaisen käsityksen pohjalta esimerkiksi masennuksesta kärsivä nuorimies voi saada potentiaalisen kouluampujan leiman, Issakainen toteaa.
Nuori ei halua kuormittaa palveluja ongelmillaan
Tutkimustulos ei yllätä Mervi Issakaista.
Vaikka yleinen suhtautuminen mielenterveyden ongelmiin on parantunut, kielteiset käsitykset masennuksesta ovat hyvin syvällä.
– On ymmärrettävä, että monet pelkäävät ja ovat syystäkin varuillaan. Työelämässä masennuksen avaaminen työkavereille tai esimiehille tai työtä hakiessa tuntuu likipitäen mahdottomalta.
Nuoret peittävät pahaa oloaan myös siksi, että eivät halua huolestuttaa läheisiään, vanhempiaan tai ystäviään tai kuormittaa heitä omilla ongelmillaan.
Leimaavan käsityksen pohjalta masennuksesta kärsivä nuori mies voi saada potentiaalisen kouluampujan leiman.
MERVI ISSAKAINEN
Toisaalta nuoret ovat hyvin tietoisia mielenterveyspalveluiden niukoista resursseista ja siitä, miten vaikea apua on saada. He saattavat jopa pohtia, ovatko he oikeutettuja hakemaan apua, kun on niin paljon ihmisiä, joilla on pahempiakin ongelmia. Avun hakemisella ei uskota olevan perusteita ennen kuin vointi on jo todella huono, kertoo Issakainen.

Tieto on huolestuttava, koska tutkimuksissa on myös havaittu, että mitä syvemmälle nuoren paha olo menee, sitä todennäköisimmin hän vaikenee asiasta. Seurauksena voivat olla itsetuhoiset ajatukset ja teot, Issakainen varoittaa.
– Ihmiset kysyvät, mitä kuuluu ja yleensä vastataan, että ei tässä mitään ihmeellistä. Oikeasti tekisi mieli sanoa, että on tosi paha olla, Tommi Marjanen sanoo.
«Uusi sukupolvi uskaltaa puhua»
Tutkija haastaa pohtimaan luutuneita käsityksiä mielenterveydestä. Jokaisella on vastuu huolehtia läheisten hyvinvoinnista. Nuoria on myös rohkaistava etsimään apua ja sellaista ihmistä, joka kuuntelee ja ottaa tosissaan.
– Meillä kaikilla on mahdollisuus ja velvollisuus kysyä läheisiltä, mitä kuuluu, miten sulla menee ja suhtautua ymmärtäväisesti.
Kynnys avun hakemiseen ja saamiseen olisi oltava matala. Nuoren oma kokemus pahasta olosta, että jonkinlaista tukea tarvitaan, pitäisi riittää, korostaa Issakainen.
Puhumattomuus on suomalaisten kansansairaus. Tommi Marjasen mielestä suomalaiset eivät uskalla puhua edes hyvistä asioista, koska silloin ollaan liian ylpeitä. Ja kun huonoista asioista ei puhuta, koska pelätään valittajan leimaa, olemmekin parhaita puhumaan säästä.
– Jopa jo peruskoulussa pitäisi alkaa opettaa nuoria avoimuuteen. Musta tuntuu, että uusi sukupolvi uskaltaa puhua asioista paljon avoimemmin, mikä on tosi hienoa.
Ylen ja mielenterveysjärjestöjen Sekasin-chat(siirryt toiseen palveluun) tarjoaa nuorille anonyymiä keskusteluapua mielenterveyden ongelmissa.

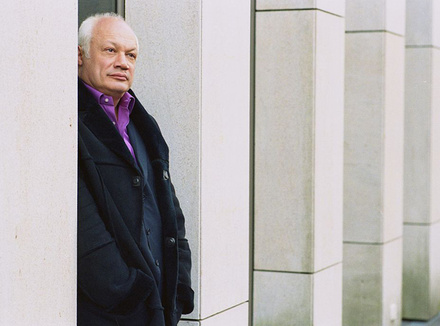 Французский писатель Эрик-Эмманюэль Шмитт ждал десятки лет, прежде чем решиться рассказать о божественном откровении, которое пережил в молодости. Свой опыт он описал в книге «Ночь огня». Мы поговорили о вере, гуманизме и религиозных фанатиках.
Французский писатель Эрик-Эмманюэль Шмитт ждал десятки лет, прежде чем решиться рассказать о божественном откровении, которое пережил в молодости. Свой опыт он описал в книге «Ночь огня». Мы поговорили о вере, гуманизме и религиозных фанатиках.

