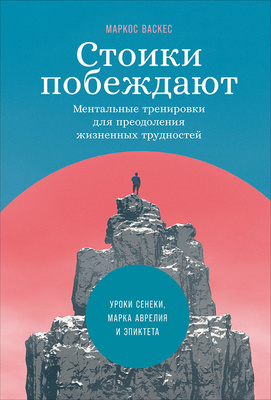У каждой эпохи есть не только свой узнаваемый стиль и ритм, но и ментальные проблемы, которые ее характеризуют. В начале XX века — это была истерия. Так называли разные состояния — от неврозов до панических атак. В начале XXI — депрессия. А сейчас мы живем под знаком психической травмы. Основатель консалтинго-тренинговой компании Deep Mind Максим Тимофеев и клинический психолог Дарья Кравченко составили для Reminder краткий путеводитель по самому актуальному расстройству современности.
У каждой эпохи есть не только свой узнаваемый стиль и ритм, но и ментальные проблемы, которые ее характеризуют. В начале XX века — это была истерия. Так называли разные состояния — от неврозов до панических атак. В начале XXI — депрессия. А сейчас мы живем под знаком психической травмы. Основатель консалтинго-тренинговой компании Deep Mind Максим Тимофеев и клинический психолог Дарья Кравченко составили для Reminder краткий путеводитель по самому актуальному расстройству современности.
Психическая травма — корень многих ментальных проблем. Почти две трети взрослых с хронической депрессией — жертвы домашнего насилия в детстве. Злоупотребление алкоголем и наркотиками — типичные долгосрочные осложнения от травмы. Зависимость может развиться и от работы: к трудоголизму особенно склонны женщины, пережившие сексуальное насилие.
Почему так происходит? Причина в том, что травма вызывает раскол в психике. Чтобы вытеснить боль от травматического переживания из сознания, мы как бы помещаем ее в капсулу. Но это не выход. «Закапсулированная» боль продолжает на бессознательном уровне влиять на наше самоощущение, генерируя хронический дискомфорт: тревогу и страх за себя, раздражение и злость на других. Мы страдаем от этих чувств, но не можем осознать, где их источник. Поэтому интерпретируем их неверно и реагируем на них неадекватно. Отсюда проблемы с самооценкой, сложности в отношениях, зависимости и деструктивное поведение.
От травмы может страдать не только отдельный человек, но и целое общество. Наша страна за последние 100 лет пережила немало трагедий, обладавших потенциалом коллективной травмы. Такая травма может передаваться по наследству от родителей детям — через воспитание. И как заразная болезнь — от одного человека другому. Травмированные люди травмируют окружающих, сами превращаясь из жертв в агрессоров. Как вырваться из этого порочного круга? Первый шаг — узнать, с чем мы имеем дело.
Что такое психическая травма
Это не обязательно нечто экстраординарное вроде автокатастрофы, нападения с применением насилия или смерти близкого. Травмирующим может быть и менее драматичный (на первый взгляд) опыт, особенно если он повторяется. Например, для ребенка таким опытом может стать не только прямое насилие, но и холодность или авторитарность родителей, жизнь со взрослым, страдающим от депрессии или зависимостей. Развивающаяся детская психика недостаточно устойчива. А причина травмы как раз в том, что у психики не хватает ресурсов, чтобы справиться с болезненным переживанием. Ведущий мировой эксперт по травме Габор Мате описывает ее так:
«Травма – это психическая рана, которая затрагивает вашу психику и далее уменьшает вашу способность расти и развиваться. Вам больно и вы действуете из этой боли. Она вызывает страх и вы действуете из этого страха. Травма — это не то, что происходит с вами, а то, что происходит внутри вас в результате произошедшего с вами ранее. Она делает вас менее гибким, менее чувствительным, более ригидным и защищающимся от мира».
По сути это последствия произошедшего — незаживающая психическая рана, которая болит. Часто единственный способ защититься от этой боли — блокировать свои чувства и ограничить способность к осознанности и гибкой реакции на происходящее здесь и сейчас. В результате боль и страх уменьшаются, но возможностей для роста и развития становится меньше.
Как ощущается травма
Люди по-разному реагируют на травму, даже если травмирующее событие одинаковое. Один человет молчит о своей боли, другой — может говорить только о ней. Кто-то уходит с головой в работу, кто-то — не может сосредоточиться. Одного-единственного точного портрета травмированного человека нет. Но у переживающих травму все же есть общие черты.
Когда человек травмирован, психика блокирует воспоминания о негативных событиях, чтобы защититься от боли. Но воспоминания и боль никуда не исчезают. И психике приходится постоянно тратить много энергии, чтобы поддерживать защиту. Следствием может быть потеря энергии, беспокойство и безысходность: ощущение того, что обстоятельства сильнее тебя и ты с ними не справишься.
Еще характерны чрезмерные эмоциональные реакции или наоборот их отсутствие. Человек крайне эмоционально реагирует на, казалось бы, незначительные обстоятельства. Или, наоборот, в очень серьезной ситуации как будто «замораживается» — ведет себя безучастно и отстраненно. Такие реакции могут приводить к сложностям в социальной адаптацией, в выстраивании доверительных отношений и межличностных границ.
Когда какое-то текущее переживание напоминает человеку о травме, может произойти ретравматизация: человек эмоционально возвращается к моменту травмы и испытывает сильнейшую стрессовую реакцию. Ретравматизацию могут спровоцировать самые разные раздражители — от прикосновения без разрешения на занятиях йогой до категоричного распоряжения руководителя. В такие моменты мозг работает так, как будто прямо сейчас ему угрожает опасность. Внешне это проявляется по-разному. Иногда человек вдруг замыкается: это можно заметить по отсутствующему взгляду. Иногда, наоборот, проявляет нетипичную для себя активность и напористость, доходящую до агрессии. Изначальную причину этой реакции человек в этот момент не осознает.
Явные симптомы травмы
- Навязчивые тревожные воспоминания и сны.
- Снижение чувства витальности: способности ощущать жизнь во всей полноте.
- Физиологические и когнитивные нарушения.
- Избегающее поведение и отчуждение от окружающих.
- Зависимости и другие самодеструктивные тенденции.
- Чувство неприкаянности и одиночества.
- Гиперактивность или, наоборот, крайняя пассивность.
- Сильная чувствительность к свету и звукам.
- Чувство стыда и склонность к самоуничижению.
- Частые смены настроения.
- Проблемы со сном.
- Склонность к рискованному поведению.
- Периодичексие «ментальные пробелы» — отключение от реальности.
- Гипертрофированное сексуальное желание или его подавление.
- Неспособность справляться со стрессом и сильными эмоциями.
- Навязчивый страх смерти.
- Психосоматические симптомы, включая головную боль напряжения.
- Депрессия и паралич чувств.
- Утрата «духовных» ориентиров: веры в справедливость, взаимопомощь, семью и т.д.
Неочевидные признаки травмы
- Психологические блокировки, мешающие работе, или длительная фиксация на какой-то жизненной ситуации. Все это может сопровождаться ощущением беспомощности — человек кажется себе заложником обстоятельств.
- Зацикленность на здоровом образе жизни и постоянных медицинских проверках на фоне плохого самочувствия, частых болезней и нехатки сил.
- Психологическое «застревание» в абьюзивных отношениях в личной жизни или на работе.
- Хронические физические и психические заболевания.
- Проблемы с выполнением договоренностей и социальных обязательств.
- Сложности с планированием и достижением целей.
Какие бывают травмы
ПТСР. Шоковая травма
Результат одного экстремально невыносимого переживания. Обычно травматическое событие происходит неожиданно и имеет четкие временные рамки. Например, авария, боевые действия, катастрофы, инвазивные медицинские процедуры, насилие. Стресс, боль, гнев — нормальный ответ на такие события. Но если у психики не хватает ресурсов, чтобы справиться с полученным опытом, человек фиксируется в состоянии психологического шока. В его восприятии жизнь делится на «до и после» травмы. Его мир распадается на части, а сам он чувствует себя запертым внутри.
Травма развития
Последствия травматического опыта в детском возрасте. У ребенка психика более уязвима перед болезненными переживаниями, чем у взрослого. При этом потребность в любви сильнее: ему жизненно необходимо внимание, признание и понимание со стороны родителей. Он не может понять, что равнодушие, тревога, гнев или депрессия у взрослых могу быть связаны не с ним, а с их собственными проблемами. Травма развития может иметь долгосрочные психологические последствия: расстройства поведения, нарушения когнитивных способностей, проблемы в социализации — отчужденность и конфликтность. Из-за стремления избегать ситуаций, которые могут вызвать сильные и потенциально опасные эмоциональные реакции, происходят изменения в работе отделов мозга, регулирующих эмоции и принятие решений: миндалевидного тела, гипоталамуса и префронтальной коры.
Межпоколенческая (коллективная) травма
Травмированные люди бессознательно передают свой опыт следующим поколениям. Прежде всего — через повседневные взаимодействия в семье и общественные нормы. Например, человек, переживший в детстве насилие, может внушать чувство опасности своим детям. В этом случае у детей могут появиться симптомы психологичексой травмы (тревожность и страх), даже если сами они не подвергались насилию.
Дети могут и сами бессознательно заимствовать у родителей стратегии выживания, которые были полезны в прошлом, но потеряли актуальность в наше время. Например, привычку к перееданию «впрок», накоплению ненужных вещей, подозрительность и враждебность к другим. Травма может передаваться и на эпигенетическом уровне — через наследственные изменения в экспрессии генов. Исследования показали, что у людей, переживших Холокост, рождались дети с признаками эпигенетических изменений генов, регулирующих уровень гормона стресса кортизола. Сейчас для проверки этих выводов ученые проводят эксперименты, моделируя травматичные условия для лабораторных животных и наблюдая за экспрессией генов у их потомства.
Как травма влияет на мозг
Когда мы сталкиваемся со стрессовой ситуаций, в организме запускается типовая программа — «дерись или беги». Мозг фиксирует угрозу и подает сигнал тревоги. Надпочечники начинают усиленно вырабатывать гормоны стресса. Желудок и кишечник замедляют работу. А дыхание учащается, чтобы сердце, а значит и все мышцы могли получить больше кислорода для сопротивления или бегства. Высшие функции мозга в этот момент частично отключаются. Контроль берут на себя более древние структуры лимбической системы.
Отличие травмы от стресса в том, что это не просто временная реакция, за которой следует возвращение в норму. Она, как пишет исследователь травматического опыта Бессел ван дер Колк, оставляет глубокий психический и физический отпечаток. Конкретнее — меняет работу трех важных частей мозга.
- Повышает активность миндалевидного тела — генератора спонтанных эмоциональных импульсов. Эта часть мозга отвечает за адекватную реакцию на внешние стимулы: объекты и людей. Если миндалина распознает в них угрозу, мозг без согласования с сознанием автоматически запускает стрессовую программу. У травмированного человека эта система сигнализации гиперчувствительна: малейшего напоминания о травматичном событии или небольшого стрессора достаточно, чтобы его миндалина отреагировала страхом. Как показывают исследования, в момент стресса уровень кортизола у травмированного человека повышается быстрее и сильнее, а снижается — медленнее. То есть его организм вырабатывать гормоны стресса, даже когда опасность миновала.
- Ослабляет связь между миндалевидным телом и префронтальной корой — той областью мозга, которая в норме держит под контролем активность миндалины: соотносит прошлый опыт с настоящим и корректирует иррациональные эмоции. Именно благодаря вмешательству префронтальной коры мы можем чувствовать себя в безопасности, даже если обстоятельства немного напоминают о травматичном опыте. Если связи эмоционального центра с префронтальной корой ослаблены, она не может эффективно регулировать эмоциональные реакции. В результате постоянным спутником человека становятся иррациональные страхи и тревога.
- Влияет на работу гиппокампа — области мозга, вовлеченной в процессы обучения и запоминания. В гиппокампе очень высока плотность рецепторов кортизола. Эксперименты с животными показали, что избыток гормона стресса коризола аккумулируется в гиппокампе и вызывает накопление воспалительных нейромедиаторов, что ведет к повреждению нейронов и развитию депрессии, когнитивных нарушений и деменции.
Травма-информированность: почему она важна?
Благодаря открытиям в области нейробиологии мы стали лучше понимать, как травма влияет на способность к саморегуляции, концентрации и поддержанию гармоничных отношений с людьми. Однако в программах многих психологических тренингов, ориентированных на «рост через боль», до сих пор не только не учитываются эти знания, но по сути эксплуатируется сама травма. Человека заставляют преодолевать себя, достигать цели через силу, что в итоге приводит к ретравматизации. Из-за интенсивного стресса в такой ситуации действительно на короткое время может возникнуть иллюзия выхода из привычной эмоциональной «заморозки» или состояния тревожности, но эти изменения вряд ли будут устойчивыми. Такого рода опыт культивирует зависимость от занятий или личности тренера, но не приносит реальной трансформации.
Другой вариант неэтичной работы — когда тренер или фасилитатор, работающий с телом и психикой, не информирован о травме и не учитывает ее в своей работе. Для участников таких программ это чревато плохим самочувствием, болезненным эмоциональным состоянием и выпадением из привычного ритма продуктивности.
Но травма-информированность нужна не только психологам и тренерам осознанности. Без нее не обойтись тим-лидам и менеджерам. Если ваш сотрудник ретравматизацируется в процессе работы, он теряет способность действовать свободно. Готовность принимать во внимание феномен травмы — это не только предпосылка к построению новых форм профессионального взаимодействия на основе доверия, но и возможность для многих людей раскрыть свой потенциал, освободившись от скрытого хронического стресса и тревоги.
Как исцелиться от травмы
К счастью, изменения, вызванные психической травмой, обратимы. Мозг обладает нейропластичностью — способностью адаптироваться к меняющимся условиям: разрушать старые нейронные связи, формировать новые и восстанавливать утраченные. Главный инструмент борьбы с последствиями травмы — новый опыт, связанный с безопасностью и стабильностью, поддержкой и близостью, успехом и способностью влиять на собственную жизнь.
Телесно-ориентированные подходы считаются многими специалистами по травме более эффективными, чем разговорная терапия. Дело в том, что одного «пересказывания» травматического опыта часто недостаточно для изменения автоматических реакций. А работа с телом позволяет воздействовать на «энергетический заряд» травмы.
Somatic Experiencing Питера Левина — метод наиболее эффективен в работе с шоковыми травмами (ПТСР).
Терапия EMDR Френсин Шапиро хорошо зарекомендовала себя в лечении сложных травм. Основана на билатеральной стимуляции мозга — поочередной активации правого и левого полушария с помощью быстрых движений глаз влево-вправо. Помогает мозгу в переработке травматического опыта и болезненных воспоминания.
Нейроаффективная реляционная модель (NARM) — метод работы с ранними бессознательными паттернами привязанности, которые оказывают сильное влияние на нашу личность, эмоции, физиологию, поведение и отношения. Применяется в терапии травм привязанности, отношений и развития.
Compassionate Inquiry Габора Мате — метод «сострадательного исследования» внутреннего мира клиента. Вот как описывает его приципы сам автор: «Цель — докопаться до тех историй, которую люди бессознательно рассказывают сами себе; помочь им понять, каковы на самом деле их убеждения и откуда они взялись, а потом показать путь, ведущий к освобождению из-под власти этих историй».
Терапия с использованием психоактивных веществ, в основном — психоделиков (Psychedelic-assisted therapy) — психиатр Бессел ван дер Колк приводит статистику, согласно которой в ряде случаев эффективность терапии с использованием МДМА достигает 83%. Окончательные выводы делать пока рано. Исследования пригодности психоактивных веществ для терапии продолжаются.
Еще несколько эффективных методов работы с травмой
- Internal Family Systems (IFS) therapy Ричарда Шварца
- Brainspotting Дэвида Гранда
- Emotional Freedom Technique (EFT tapping)Tension & Trauma Release Exercises (TRE) Дэвида Берчели
- Схема-терапия
- Травма-фокусированная КПТ (Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy — TF-CBT).
Deep Mind рекомендует алгоритм увеличения психической устойчивости, который станет хорошим дополнением к терапевтической работе с травмой:
- Развивайте психологическую грамотность — с помощью книг и лекций.
- Повышайте ментальную осознанность — с помощью медитации.
- Культивируйте телесную осознанность с помощью двигательных и дыхательных практик.
- Создавайте внутренний «эмоциональный контейнер» и развивайте навык конструктивного проявления агрессии и гнева, например, через занятия боевыми искусствами.
- Учитесь чувствовать поддержку со стороны других людей и соединенность с другими — через практики социальной синхронизации (пение, танцы, театр).
- Развивайте навык саморегуляции нервной системы и стрессового отклика — через эмбодимент-коучинг и методы биологической обратной связи, например, с помощью измерения вариабельности сердечного ритма, которая считается показателем уровня стресса.
Полезные ресурсы
https://reminder.media/
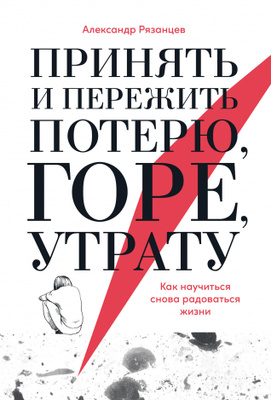
 У каждой эпохи есть не только свой узнаваемый стиль и ритм, но и ментальные проблемы, которые ее характеризуют. В начале XX века — это была истерия. Так называли разные состояния — от неврозов до панических атак. В начале XXI — депрессия. А сейчас мы живем под знаком психической травмы. Основатель консалтинго-тренинговой компании Deep Mind Максим Тимофеев и клинический психолог Дарья Кравченко составили для Reminder краткий путеводитель по самому актуальному расстройству современности.
У каждой эпохи есть не только свой узнаваемый стиль и ритм, но и ментальные проблемы, которые ее характеризуют. В начале XX века — это была истерия. Так называли разные состояния — от неврозов до панических атак. В начале XXI — депрессия. А сейчас мы живем под знаком психической травмы. Основатель консалтинго-тренинговой компании Deep Mind Максим Тимофеев и клинический психолог Дарья Кравченко составили для Reminder краткий путеводитель по самому актуальному расстройству современности.