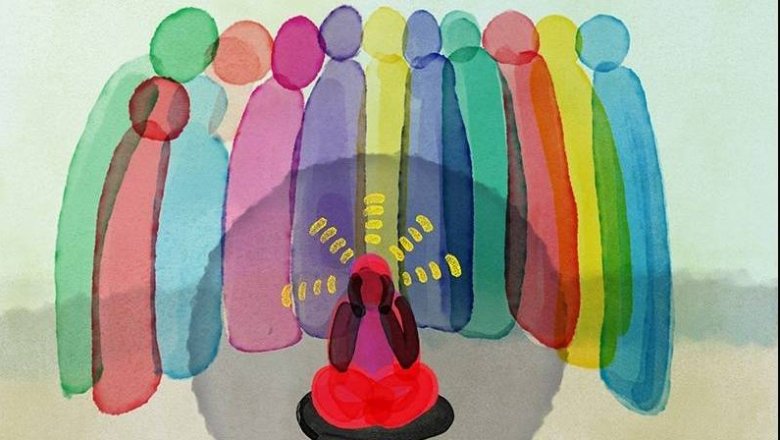 Первый острый эпизод случился со мной примерно в 17 лет — бессонница, слуховые галлюцинации, невозможность сосредоточиться.
Первый острый эпизод случился со мной примерно в 17 лет — бессонница, слуховые галлюцинации, невозможность сосредоточиться.
Я поужинала, муж и ребенок легли спать, я долго сидела в интернете, а потом тоже пошла ложиться. Легла и подумала, что, возможно, я не выключила плиту. Встала, проверила, легла обратно. Мысль о том, что плита — новая, современная плита с газ-контролем — включена, никуда не делась. Я встала и проверила еще раз. Ничего. Легла. Встала. Проверила. Легла. Утром я села в машину, чтобы поехать на работу, и мне вдруг показалось, что я не закрыла дверь квартиры. Угадайте, сколько раз я возвращалась ее проверить?
Пять раз. В последний раз я чуть не плакала и ненавидела себя за то, какая я идиотка. И мне все еще не приходило в голову, что мне, возможно, нужна помощь.
***
Когда я училась в школе, одним из самых популярных обзывательств было «из 15-й сбежала!» — специализированная психиатрическая больница в Харькове (между прочим, работающая с 1820-го года) долго носила номер 15. Сейчас это областная больница номер 3, и раз в месяц я езжу туда увидеться со своим лечащим врачом.
Не знаю, как сейчас обзываются школьники, но психиатрия до сих пор очень стигматизирована. Практически каждый раз, когда я в соцсетях читаю у какого-то человека в посте описания состояния, похожего на ментальное расстройство, и предлагаю контакты психиатра, я сталкиваюсь с негативной реакцией вплоть до обвинений в паранойе.
Совершенно невозможно представить такую реакцию на совет сходить к гинекологу при непонятных болях внизу живота или, там, посетить стоматолога, если зубы болят после горячего. Каждому ясно, что стоматолог или гинеколог — это просто врач, к которому можно прийти провериться «на всякий случай».
Никто не ходит на всякий случай к психиатру. К ним попадают, когда все другие варианты исчерпаны. К сожалению.
***
Сейчас я понимаю, что высокая тревожность у меня была всегда. В детском садике я боялась пожара и случайно умереть от разрыва сердца, в начальной школе — пожара и что что-нибудь случится с родителями, подростком — сойти с ума и смерти. В какой момент предрасположенность стала расстройством? Я не знаю.
Первый острый эпизод случился со мной примерно в 17 лет — бессонница, слуховые галлюцинации, невозможность сосредоточиться. Когда, набравшись смелости, я пожаловалась старшим друзьям, что мне все время кажется, что в моей комнате кто-то то ли издает странный шорох, то ли неразборчиво что-то говорит, то ли зовет меня и что мне все время кажется, что мир вокруг меня ненастоящий и стоит мне прикоснуться к чему-то, как оно исчезнет, они посоветовали мне поменьше думать о себе, делать перед сном зарядку и побрызгать комнату святой водой.
Примерно тогда же я прочла повесть Дж. Сэлинджера «Фрэнни и Зуи», главная героиня которой все время читает Иисусову молитву, и от отчаяния начала читать ее по вечерам. Засыпать стало легче. Потом моя близкая подруга каким-то шестым чувством догадалась, что я не в порядке, и забрала меня жить к себе. Меня отпустило. Я думала, что такого больше не будет, и старалась не возвращаться к этим эпизодам. Потому что я же не сумасшедшая.
Спустя два года мое состояние ухудшилось. Ощущение нереальности мира и слуховые галлюцинации вернулись, но на этот раз я о них никому не рассказывала, потому что вся смелость закончилась на предыдущей попытке. Меня преследовало ощущение, что со мной вот-вот случится что-то плохое.
Единственное, что я могла тогда — это заниматься карате. Я ходила на тренировки три-четыре раза в неделю, потому что это было единственное место, где я чувствовала себя спокойно, и единственный способ устать так, чтобы сразу заснуть и спать без сновидений. Тот семестр был единственным, в который я завалила сессию и осталась без стипендии. Тогда же я начала ходить в церковь. Там было размеренно, спокойно и давали четкие инструкции. Примерно как на тренировке.
В следующий раз меня накрыло после рождения ребенка. Тогда я пошла на психотерапию, и мне стало полегче. В следующий — когда сыну было 3,5 и я начала бояться, что не выключила утюг, который ни разу не доставала из коробки.
Постфактум мысль о том, что мне нужно было к психиатру, кажется совершенно очевидной. Проблема психических расстройств в том, что в этом состоянии самые очевидные вещи далеко не очевидны. Я подозревала у себя депрессию (на этот момент это было единственное психическое расстройство, о котором я хоть что-то знала), но симптомы не подходили. Я читала в интернете статьи про разнообразные опухоли мозга, но на опухоль мозга тоже было не похоже. Каждый день я думала, что со мной не так, и не могла найти ответа на этот вопрос.
Жизнь, тем временем, окончательно стала разваливаться на куски. Я приезжала на работу и не могла заставить себя выйти из машины. Сидела в ней от пятнадцати до сорока минут, иногда тупила в телефон, иногда плакала. Постоянно мучилась головными болями, от которых ничего не помогало.
Я ходила к невропатологу — он ничего не обнаружил. Я ходила к остеопату — было очень приятно, но как только я закончила сеансы, тревога вернулась. Я пробовала пить витамины — не помогло.
Я ни с кем об этом не говорила — люди, которых я тогда считала друзьями, меня бы только высмеяли, мужа мне не хотелось пугать зря, писать в сообщество, где были люди, которые меня знали лично и могли сказать общим знакомым, не хотелось тем более. Я же не сумасшедшая.
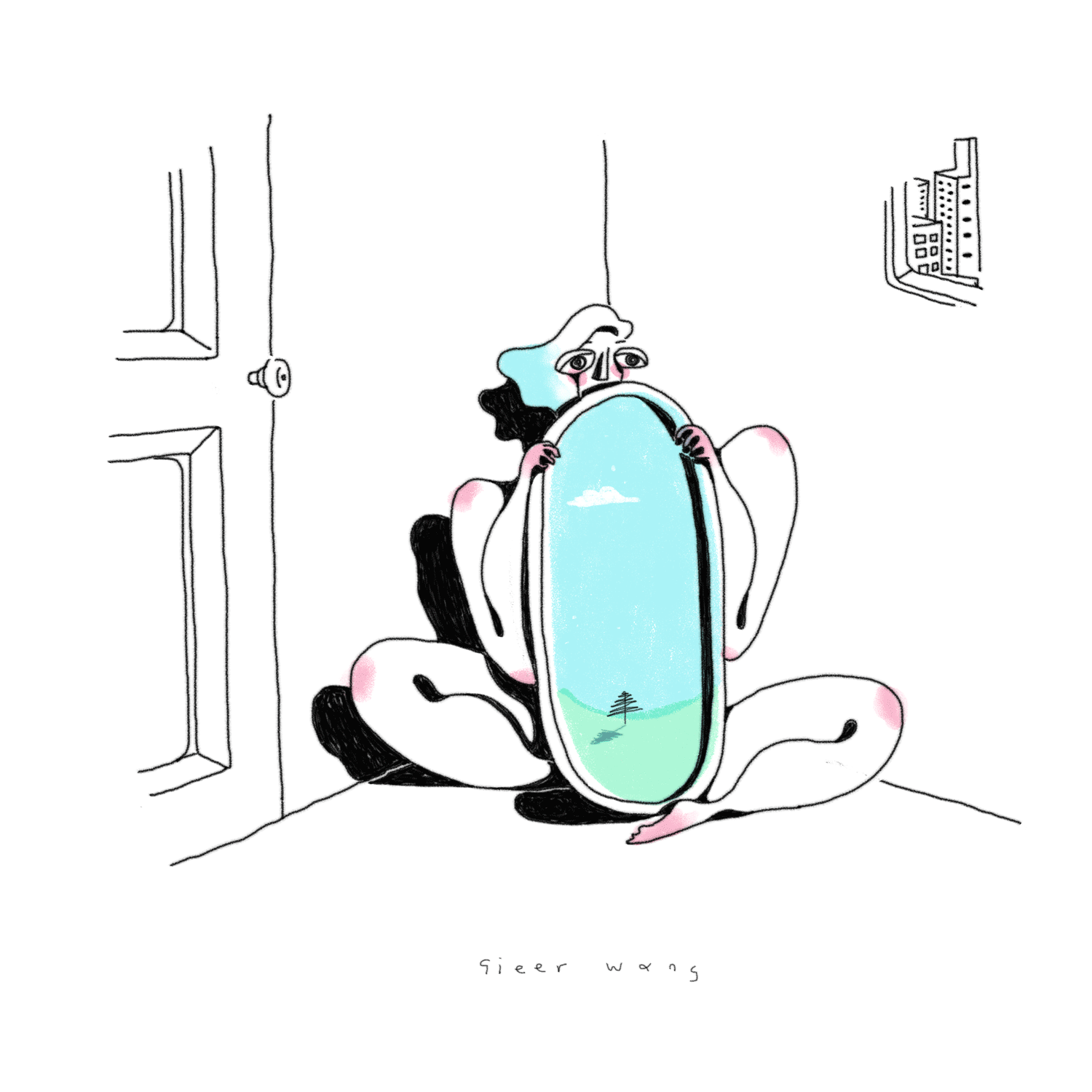
Потом я прочла текст Маши Борзенко о ее опыте жизни с паническим расстройством. У меня были другие симптомы, но тогда впервые я подумала, что, может быть, у меня что-то вроде панического расстройства, только не совсем. Я задала вопрос своему тогдашнему психотерапевту, но он сказал, что не видит у меня никаких тревожных симптомов. Поскольку у него было психиатрическое образование, я ему поверила.
Вообще тема взаимоотношений психиатрии и психотерапии в наших реалиях очень сложная. По моему опыту, для успешного преодоления расстройства важно и то, и другое — и медикаментозная поддержка, и работа с психотерапевтом или психотерапевткой. К сожалению, многие психотерапевты и психиатры осознанно или неосознанно тянут одеяло на себя.
Очень часто можно встретить психотерапевтов, которые более или менее явно транслируют негативное отношение к медикаментозной поддержке при психических расстройствах. О том, чтобы найти психиатра и психотерапевта, которые согласятся работать в паре, к сожалению, не приходится и мечтать.
Самое лучшее, на что можно рассчитывать, — это психотерапевт с образованием психиатра, который может как проводить психотерапию, так и назначить медикаментозное лечение. Но, как видите, и это работает не всегда. Чтобы стать хорошим психиатром, диплома мало, нужно много часов практики — не меньше, чем чтобы стать хорошим психотерапевтом.
Потом у меня расстроилось зрение, я стала плохо видеть в темноте, у меня развилась светобоязнь. Головные боли, расстройство зрения и проблемы с головой? Наверное это опухоль мозга. Я пошла к другому невропатологу и она сказала «я ничего не вижу, но на всякий случай сделайте МРТ головного мозга, когда будет время».
Естественно, я побежала делать МРТ на следующий день. Два часа между МРТ и получением результатов были одними из худших в моей жизни. У меня тогда совершенно не было сил, в том числе на то, чтобы попросить кого-то меня поддержать. Не помню даже, сказала ли я мужу. Так что с МРТ я вернулась на работу, два часа тупила в монитор и мысленно писала завещание.
МРТ оказалось совершенно нормальным.
Ночью я не могла заснуть, потому что мне казалось, что меня могли с кем-то перепутать. Или что я могла невнимательно прочесть заключение, и на самом деле там написано не «норма» а «опухоль». Я доставала заключение и перечитывала. Я лихорадочно вспоминала, кто был до и после меня — вроде бы делали МРТ колена и груди… но вдруг я неправильно запомнила? В общем, примерно на десятом перечитывании выписки я подумала, что, наверное, я все-таки тронулась умом и мне нужно к психиатру.
Мне очень, очень, очень повезло: у меня были в телефоне контакты психиатра, которого мне один знакомый порекомендовал для другого знакомого, и мне не пришлось думать, где его найти. Я просто позвонила и записалась на прием.
Не помню, поехала я на следующий день или через день. Помню, что мне было очень страшно. Боялась я того, что психиатр — как старшие друзья, невропатологи, терапевты и психотерапевт — скажет мне, что я в порядке. Что у меня слишком буйное воображение. Что я слишком зациклена на себе. Что я все это придумала чтобы привлечь внимание. И к кому я тогда пойду?
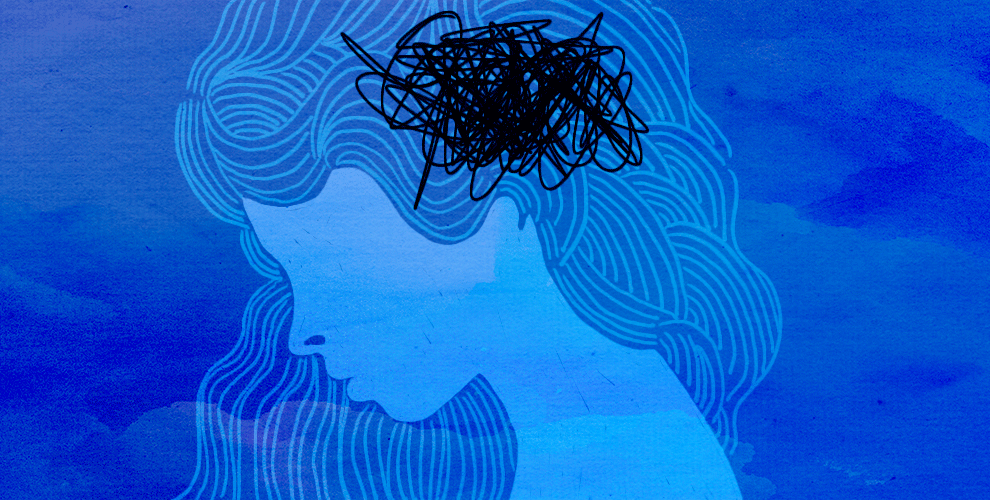
Я составила длиннющий список того, как именно мне плохо. Я ехала и прокручивала в голове этот список. Бормотала себе под нос симптомы. Когда я зашла в кабинет, сил у меня хватило только на то, чтобы пропищать «мне последнее время как-то не очень». Психиатр ответил «вижу». Через час разговора я ушла с диагнозом «генерализованное тревожное расстройство», планом лечения, рецептом на таблетки, разрешением звонить в любое время, если что-то будет не так, и чувством огромного облегчения: наконец-то нашелся врач, который знает, что со мной и как мне помочь.
На этом захватывающая часть истории заканчивается и начинается жизнеутверждающая. Как через 2–3 недели после начала лечения мне стало нормально впервые за много-много времени.
Как я поняла, что болею тревожным расстройством очень давно, и это четвертое по счету обострение. Как таблетки, которые мне сначала помогли, перестали мне помогать, и мы несколько месяцев подбирали другие, и все это время у меня не было давящей тревоги, но была то сонливость, то бессонница, то плаксивость. Как у меня несколько месяцев была ремиссия, и я думала, что вылечилась, а потом снова случилось обострение. Как во второй раз на стабилизацию состояния ушло две недели, а не два месяца. Как внезапно оказалось, что без тревожного расстройства у меня в три раза больше сил.
Как я уволилась с неподходящей работы и прекратила общаться с людьми, которые меня стыдили. Как у меня появились новые друзья и знакомые. Как я стала заниматься активизмом. Как я исполнила свою давнюю мечту и завела собаку. Как я уговорила пойти к психиатру полдесятка людей с депрессивной и/или тревожной симптоматикой, и лечение им помогло.
Я не могу сказать, что я совсем перестала бояться, нет. Мне часто бывает страшно.
Страшно сталкиваться со стигматизацией психических заболеваний, когда люди от тебя шарахаются как от прокаженной, называют неадекватной или чокнутой.
Страшно сталкиваться с обесцениванием, когда тебе говорят, что все это глупости и нужно просто бегать по утрам, пить смузи и меньше думать о себе. Одна знакомая, например, написала мне, что нужно усыновить ребенка, потому что когда делаешь добро деткам, все проблемы сами собой проходят. Страшно снова оказаться в состоянии настолько безысходном и беспросветном, как два года назад, когда я впервые пришла к психиатру. Страшно писать этот текст. Страшно думать о людях, у которых доступа к квалифицированной медицинской помощи меньше, чем у меня.
Я везунчик: у меня есть доступ к информации, я знаю английский, у меня очень крутой муж и поддерживающая семья, и мне не приходится прятать таблетки, когда в гости приходит мама. В конце концов, у меня есть деньги на лечение и лекарства, и я могу себе позволить врача, который принимает в отдельном кабинете и разрешает ему звонить. У большинства людей такой возможности нет. О психических расстройствах не говорят, а бесплатная психиатрическая помощь в теории существует, но как ее получить, знают только те немногие, которым это удалось.
В вестибюле больницы, куда я хожу на прием к врачу, висит красочный плакат, на котором перечислены симптомы психических заболеваний, в том числе тревожного расстройства, и большими буквами написано, что если это происходит с вашим близким, нужно обратиться за помощью к врачу.
Каждый раз, когда я прихожу на прием, я спотыкаюсь о него взглядом и думаю, какой была бы моя жизнь, если бы такие плакаты висели всюду, как плакаты о необходимости маммографии после сорока или проверке опасных родинок. Что бы было, если бы о распространенных симптомах психзаболеваний можно было узнать, не приходя в психиатрическую больницу.

 13 vuotta sitten istuin lääkärin vastaanotolla ja itkin. Kuukausien ahdistus, uupumus, ilottomuus, vatsakivut, paniikkioireet ja unettomuus olivat vieneet voiton. Olin juuri valmistunut opinnoistani ja aloittanut oman alani työt. Lääkäriin uskaltautuminen oli 28-vuotiaana suuri ponnistus. Tunsin suurta häpeää siitä, että romahdin juuri, kun olisi pitänyt aloittaa uran tekeminen toden teolla.
13 vuotta sitten istuin lääkärin vastaanotolla ja itkin. Kuukausien ahdistus, uupumus, ilottomuus, vatsakivut, paniikkioireet ja unettomuus olivat vieneet voiton. Olin juuri valmistunut opinnoistani ja aloittanut oman alani työt. Lääkäriin uskaltautuminen oli 28-vuotiaana suuri ponnistus. Tunsin suurta häpeää siitä, että romahdin juuri, kun olisi pitänyt aloittaa uran tekeminen toden teolla.
 Онкопсихолог о том, почему не надо бояться умирать и отпускать близких.
Онкопсихолог о том, почему не надо бояться умирать и отпускать близких.