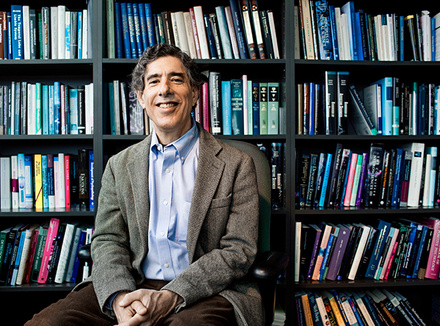 У каждого нашего гена есть что-то вроде «регулятора громкости»: он может заявлять о себе едва слышно или в полный голос. Профессор психологии Ричард Дэвидсон — о том, как медитации и практика внимательности меняют наше физическое и эмоциональное состояние.
У каждого нашего гена есть что-то вроде «регулятора громкости»: он может заявлять о себе едва слышно или в полный голос. Профессор психологии Ричард Дэвидсон — о том, как медитации и практика внимательности меняют наше физическое и эмоциональное состояние.
Ричард Дэвидсон: Я считал, что эмоциональные реакции рассказывают нечто чрезвычайно важное о том, что значит быть человеком. Еще в юности меня поразило, как по-разному мы реагируем на одни и те же события. Эмоции — основа индивидуальности, именно они делают нас уникальными. Посмотрите вокруг — стоит задуматься о каком-то человеке, как у нас в голове возникает его эмоциональный портрет: насколько он дружелюбен или раздражителен, открыт новому или циничен. Вскоре мне стало ясно, что эмоции напрямую связаны с нашим здоровьем и благополучием. И что если мы научимся их понимать и ими управлять, то сможем улучшить свою жизнь.
Она исследует, как соотносятся наши эмоции с процессами, происходящими в нашей центральной нервной системе. Нейронауки — нейробиология, нейрофизиология, нейрогенетика — буквально расцвели в последние 15 лет благодаря новым методам изучения структур головного мозга, прежде всего благодаря МРТ. Мы, например, обнаружили связь между эмоциями и зонами мозга и на основе этих данных описали шесть эмоциональных стилей. Каждый из них отражает один из аспектов нашего поведения и соответствует определенному нейронному контуру в нашем мозге.
Активность отделов мозга и даже их структура могут меняться в результате нового опыта
Безусловно, развитие эмоциональных стилей во многом зависит от наших генов, но вклад жизненного опыта тоже очень велик. Эмоциональные стили формируются в раннем возрасте в ответ на обучение. Мы сегодня знаем, что активность отделов мозга и даже их структура могут меняться в результате нового опыта. Это означает, что мы можем повлиять на свои эмоциональные реакции, если будем решать задачи и делать упражнения, направленные на изменение определенного нейронного контура, его активности или структуры. Например, можно развить у себя способность лучше чувствовать сигналы своего тела, быть более внимательным, смотреть на будущее более оптимистично.
Важно понимать, что упражнения не вылечивают, но могут существенно ослабить симптомы. В случае с астмой нейронные контуры, которые активируются в ответ на стресс, связаны с воспалительными процессами в легких астматиков. Возможно, если научить больных иначе реагировать на стресс, это изменит соответствующие контуры мозга и уменьшит воспаление, которое считают ответственным за астматические приступы.
Если люди научатся фокусировать внимание на действительно важных вещах, мы будем жить в другом мире
Внимательность — это то, в какой мере мы способны фокусировать свое внимание и оставаться в этом состоянии, не отвлекаясь, не позволяя своему уму блуждать.
Тогда объясните, как вы определяете медитацию внимательности.
Один из аналогов слова «медитация» в санскрите — «ознакомление». Можно сказать, что на Востоке было развито целое семейство психических практик, которые назвали медитацией. И по сути, это набор различных стратегий для ознакомления человека с его собственным умом. Медитация внимательности относится к такому типу медитации, при котором практикующие учатся намеренно и без суждений направлять свое внимание на объект, эмоцию, мысль. И благодаря тому что они учатся не судить себя, свои действия и психические процессы, а также других людей, они учатся иначе эмоционально реагировать в стрессовых ситуациях.
Я уверен, что практики медитации обладают гигантским потенциалом не только в том, что касается трансформации сознания отдельных людей, но и, как следствие, мира, в котором мы живем. Я думаю, мало кто будет оспаривать тот факт, что если люди на планете станут более сострадательными и добрыми друг к другу, научатся лучше управлять своими эмоциями и своей жизнью, фокусировать свое внимание на действительно важных вещах, мы будем жить совсем в другом мире.
Я рад, что вы об этом спросили, потому что ответ на этот вопрос интересует и меня. В США мы проводим масштабное исследование, в котором участвуют дошкольники 4–5 лет. Для них мы разработали «Программу доброты», которая длится 12 недель. Например, мы просим детей лечь на пол и кладем им на живот небольшие камешки. Затем просим их в течение пяти минут наблюдать за тем, как камешек опускается и поднимается вместе с их животом в такт дыханию. Когда такая короткая практика делается несколько раз в течение дня, за неделю у каждого ребенка в общей сложности набирается 90 минут медитации.
Ученые выяснили, что практики медитации действительно меняют мозг человека
Он перевернул мои представления о том, что должно быть предметом научного изучения. Когда мы впервые встретились в 1992 году, он спросил меня: «Почему ученые изучают только болезнь, только негативные эмоции? Почему вы не исследуете счастье?» И этот вопрос меня совершенно потряс. Я буквально потерял дар речи. У меня не было ответа. Действительно, почему кажется очевидным изучать депрессию и тревогу, но мы не используем те же методы для изучения доброты и сострадания?! Именно Далай-лама вдохновил меня на изменение направления моих исследований — и я занялся изучением счастья, доброты, сострадания.
Я бы сформулировал мягче. Исследуя как буддийские практики, так и светские разновидности медитации, ученые выяснили, что данные практики действительно меняют мозг и в результате человек становится более здоровым как физически, так и психологически. Также меняется субъективная оценка своего здоровья и благополучия. Но есть те немногие, на кого медитация не действует, и мы пока не знаем, почему это происходит.
Шесть измерений нашей эмоциональной жизни
- «Устойчивость» (или «эмоциональная гибкость») определяет, насколько быстро мы восстанавливаемся после неприятностей.
- «Мироощущение» показывает, как долго мы способны испытывать положительные эмоции после приятного события.
- «Самоосознание» описывает, насколько хорошо мы осознаем свои телесные ощущения, понимаем ли то, о чем говорит наше тело. Когда мы в печали или испытываем любопытство, как эти чувства проявляются в теле?
- «Социальная интуиция» говорит о том, насколько мы внимательны к невербальным сигналам, которые получаем от других людей: к их интонации, мимике, изменению позы, движению глаз.
- «Чувствительность к контексту» проявляет, насколько точно мы способны оценивать социальную обстановку: то, как мы ведем себя с партнером, отличается от того, как мы общаемся с начальником или с психотерапевтом.
- «Внимательность» говорит о том, способны ли мы по своей воле фокусировать внимание на чем-то и удерживать его так долго, как нам это нужно. Или мы тут же отвлекаемся? Легко ли нас выбить из колеи?
Это очень серьезный вопрос. Есть ситуации, когда человек действительно не может повлиять на какие-то аспекты своего поведения. И это связано со структурными и функциональными нарушениями в работе его мозга, возникшими в результате травм или органических поражений. Но я уверен, что в более широком смысле мы все должны отвечать за свои действия.
Конечно, на нас воздействуют внешняя среда и специфические особенности функционирования нашего мозга, но в каждом из нас есть «молекула» свободной воли. И я считаю, что мы должны рассматривать друг друга как существ, ответственных за свою жизнь.
Абсолютно недопустимо позволять подростку манипулировать вами под предлогом, что его мозг так устроен. Но вы можете вместе с ним разработать стратегии, которые помогут ему усилить какие-то нейронные контуры в его мозге. Например, ответственные за способность фокусировать внимание.
Вы с коллегами доказали, что практика внимательности меняет даже… экспрессию генов.
Да, и это очень важные результаты! Всего 8 часов практики внимательности могут изменить экспрессию наших генов. Что это значит? У каждого нашего гена есть что-то вроде «регулятора громкости»: он может заявлять о себе едва слышно или в полный голос. В случае практики внимательности изменить экспрессию — значит приглушить гены, связанные с воспалительными процессами в организме. Это открывает перед наукой и медициной новые горизонты.
Я практикую каждый день, от 30 до 45 минут, обычно 45 минут. Я использую практику внимательности, медитацию любящей доброты и некоторые другие тибетские практики, развивающие доброту и сострадание. И я сейчас совершенно не представляю мою жизнь без них.

Об эксперте
psychologies.ru
 Ilman ohikulkijan suurta auttamishalua Petra Peipon elämä olisi kenties jo päättynyt.
Ilman ohikulkijan suurta auttamishalua Petra Peipon elämä olisi kenties jo päättynyt.



 Нейрокомпьютерные интерфейсы позволяют людям управлять устройствами, используя сигналы мозга. Их работа основана на считывании электрической активности мозга в тот момент, когда обладатель нейроинтерфейса думает о выполнении какого-либо действия. В частности, этот механизм используется и в продвинутых протезах. Исследователи из Института когнитивных наук и наук о мозге человека Макса Планка задались вопросом, как использование нейроинтерфейсов влияет на сам мозг и может ли изменить его так же, как выполнение реальных действий. Результаты работы были
Нейрокомпьютерные интерфейсы позволяют людям управлять устройствами, используя сигналы мозга. Их работа основана на считывании электрической активности мозга в тот момент, когда обладатель нейроинтерфейса думает о выполнении какого-либо действия. В частности, этот механизм используется и в продвинутых протезах. Исследователи из Института когнитивных наук и наук о мозге человека Макса Планка задались вопросом, как использование нейроинтерфейсов влияет на сам мозг и может ли изменить его так же, как выполнение реальных действий. Результаты работы были 