 В Домашние задания. Рубрика «Кризисная помощь».
В Домашние задания. Рубрика «Кризисная помощь».
Соне шестнадцать лет, и она не может выбрать. Кто милее — котята или прыгающие овечки? Кто ей нравится больше — мальчики или девочки? Что взять из дома — таблетки или нож?
В свои шестнадцать Соня делала это дважды. Первую попытку самоубийства она совершила, когда ее лучшая подруга сказала, что больше не хочет с ней дружить. Тогда она прямо в школе достала таблетки, но ее тут же начало тошнить — и Соню увезли на скорой в больницу. Там она покорила медсестер своим покладистым характером, и ее выписали — веселой и спокойной.
Соня вернулась в школу и узнала, что ее лучшая подруга начала встречаться с мальчиком. Соня снова тайком залезла в мамину аптечку… Это — чудо, что ее снова удалось спасти. Это — ад, в котором Соня с мамой живут после выписки.
— Не закрывай дверь в комнату! Покажи, с кем ты переписываешься! Немедленно скажи, куда ты идешь!
Соня злится, бросается вещами и хлопает дверью своей комнаты. Она покрасила ее в черный цвет, развесила плакаты с любимыми группами и мечтает привести туда друзей, которые скажут: «Вот круто!»
— Вот кошмар, — морщится мама и снова кричит. — Не вздумай снова запирать дверь!
В тот день Соня лежала на кровати в своей чудесной черной комнате и переписывалась с друзьями. На ее предложение погулять не ответил ни один, и Соня едва сдерживала слезы. Мама, как обычно, ворвалась в комнату без стука и начала ругаться, что дверь была закрыта.
От злости Соня кинула в нее своим айфоном и похолодела. Мама медленно подняла телефон с пола, и лицо у нее было такое, что Соня поняла: больше ей телефон не вернут. Сейчас мама снова будет читать ее переписку…
Соня оттолкнула маму, выхватила у нее из рук айфон и в одной футболке выбежала на улицу. Она не чувствовала холода, когда непослушными пальцами набирала знакомый номер:
— Алло? Я хочу убить себя на восемь баллов из десяти!
Соня — пациентка доктора Мэри-Пол де Вальдивиа, доцента медицинской школы Йельского университета. Этот звонок она сделала накануне отъезда психолога на конференцию в Москву, и доктору удалось ее успокоить. Мэри-Пол де Вальдивиа помогла девочке составить план безопасности, который позволяет раз за разом, от кризиса к кризису формировать более безопасное поведение в стрессовых ситуациях. На международной конференции по предотвращению суицида в Москве Мэри-Пол показала, как проходил их сеанс.
Шаг 0. Успокоиться
По Соне видно — она до сих пор не может отойти от вчерашней ссоры и очень нервничает.
— Я в депрессии, — все повторяет она, и психолог отмечает, что не стоит расспрашивать ее в таком состоянии. Она предлагает Соне сделать несколько глубоких вдохов, после чего девочка наконец может говорить.
— Я очень разозлилась, я так захотела ее ударить или наглотаться таблеток! Я просто не знала, что делать, и выбежала из дома. Мне даже не было холодно, так я была зла!
Шаг 1. Распознать сигналы того, что кризис приближается
Психолог просит Соню вспомнить, что она чувствовала, когда расстроилась:
— Вот мама зашла к тебе в комнату — и?
— На самом деле я расстроилась раньше. Когда я писала друзьям, но мне никто не отвечал, и я почувствовала себя очень одинокой. В груди стало больно и тяжело. Мне захотелось плакать, но лицо как будто окаменело. Я подумала, что никому не нужна, и захотела спрятаться в своей комнате, чтобы меня никто не трогал.
Мэри-Пол записывает это. Это сигналы-маяки, по которым Соня поймет, что приближается «шторм» и скоро негативные эмоции захлестнут ее. Чтобы этого не произошло, ей нужно перейти к следующему шагу — попытаться спасти себя самостоятельно.
Шаг 2. Подумать, что можно сделать, чтобы отвлечься от мыслей о проблемах, не прибегая к помощи других
Для Сони в такие моменты лучше всего остаться одной. Закрыться в своей комнате, чтобы туда никто не входил, и включить смешные видео на YouTube. Когда она смотрит на большого кота в маленькой коробке, ей становится чуточку легче.
После нескольких попыток самоубийства Сони ее мама боится, когда та закрывает дверь в комнату. Еще больше она боится, если дверь заперта. Мэри-Пол де Вальдивиа понимает, что для Сони возможность успокоиться в своей комнатке — не каприз, а необходимость. Но сама Соня не может объяснить это маме. Здесь нужна помощь «переводчика», психолога, который сможет спокойно донести до каждой стороны, что имеет в виду другая, и помочь им найти общий язык.
Шаг 3. Вспомнить людей или социальные обстоятельства, которые могут отвлечь
Соня с горечью говорит, что у нее, судя по всему, нет друзей и звонить ей тоже некому. Но, отвечая на расспросы Мэри-Пол, вспоминает о тетушке, которая любит ее, и об учительнице, которая хорошо относится к ней в школе.
— Но вы не понимаете! Я не могу просто так прийти к учительнице и начать ныть о своих проблемах!
Не нужно жаловаться, успокаивает ее психолог, нужно просто поговорить. Мы ищем способ отвлечь тебя от твоих проблем, и для этого необходимы люди, с которыми ты можешь общаться.
Шаги 4 и 5. Составить список профессионалов и организаций, которые могут помочь
— Твоя мама знает, как работают организации по оказанию срочной помощи, но я бы хотела, чтобы ты чувствовала свободу в том, с кем связаться, если тебе срочно нужна помощь.
— Ну я знаю, что есть горячие линии, но боюсь им звонить.
— А ты пробовала?
Соня с психологом договариваются, что в первый раз они вместе позвонят на горячую линию. Дальше, если Соне потребуется срочно получить консультацию, то ей уже не будет так страшно звонить туда.
В России есть горячая линия «Твоей территории», где оказывают психологическую помощь подросткам. Обращения детей, находящихся в таком же положении, как Соня, поступают консультантам «Твоей территории» каждый день. В чаты психологам пишут подростки, которые по разным причинам не могут поговорить об этом с родителями, рассказывает врач-психотерапевт Мария Петрунина, отвечающая за общие супервизии в проекте.
«Онлайн-психолог работает с эмоциональным состоянием в обращении, что способствует снижению интенсивности переживания и улучшению состояния, — говорит Мария. — Возможность сказать о своем состоянии в диалоге с консультантом может помочь ребенку в дальнейшем поговорить с родителем или обратиться за помощью к кому-то из близких».
Шаг 6. Сделать ситуацию более безопасной
— Если бы моя мама не торчала в моей комнате, то я могла бы успокоиться так, как вы советуете!
— Нет, не годится, — качает головой психолог. — Сложно заставить людей вести себя так, как хотелось бы тебе, надо найти другой способ.
Соня долго молчит.
— Мы можем убрать ножи из дома? — наконец спрашивает она. — Я беру их, когда мне плохо, и мне нравится это чувство.
Откровенность дается Соне нелегко. Это очень важный момент, который позже психолог обсудит с мамой девочки и еще попросит внимательнее приглядывать за своим ящичком с лекарствами, от которого Соня давно нашла ключ.
Шаг 7. Найти то, ради чего стоит жить
Соня хочет, чтобы в ее жизни было меньше боли. Этого не так много для работы, но это уже начало. Осмелев, она начинает мечтать, что станет ветеринаром. Психолог поддерживает ее, и Соня, описывая, как будет возиться с животными, впервые за эту неделю ощущает надежду.
План, который они составили вместе, — это план безопасности подростка с суицидальным поведением. Его можно отдать родителям, близким родственникам или учителям, можно даже развесить по дому в каждой комнате. Психолог все время подчеркивает: Соня должна взять на себя ответственность за свою жизнь и стараться сохранять ее.
От кризиса к кризису
После сеанса с психологом к Соне зашла мама. Разговор обеим давался очень тяжело: Соне приходилось несколько раз прибегать к упражнениям на дыхание, чтобы не наговорить лишнего, а у мамы в глазах стояли слезы. Соня узнала, что мама просто испугалась, что при падении дорогой телефон разбился, а вовсе не хотела проверять ее переписку с друзьями. А мама поняла, что Соня сбежала из дома не для того, чтобы заставить ее волноваться, а чтобы хоть как-то погасить ссору.
Это большой шаг вперед, но еще не хеппи-энд. Суицидальные кризисы имеют свойство повторяться, и один раз составить план безопасности недостаточно. Нужно снова и снова возвращаться к нему и внедрять в свою жизнь. Могут ли родители составить такой план, не прибегая к помощи психолога?
«Конечно, план сам по себе полезен, — рассказывает координатор конференции врач-психотерапевт Дмитрий Пушкарев. — Но если речь идет о суицидальном риске, то это не та ситуация, где можно таким планом ограничиться. Если риск суицида не нулевой, то совершенно точно надо обращаться к специалисту, а не говорить: “Ну если захочешь себя убить, вот тебе план и телефон, носи всегда с собой”».
Дмитрий столкнулся с проблемой детей, которые склонны к суицидальному поведению, пять лет назад и понял, что специалистов, разбирающихся в этой теме, исчезающе мало. Дмитрий Пушкарев организовал в Москве конференцию по предотвращению суицидов с участием экспертов из Канады и США, чтобы таких специалистов в стране стало больше. Чтобы подростков не держали в стационарах и не прописывали им сильные успокоительные, путая желание убить себя с депрессией.
Экстремальная коммуникация
По статистике, количество суицидальных попыток среди несовершеннолетних в России не становится меньше с каждым годом. В этом обвиняют «группы смерти», публикации в СМИ с громкими заголовками и социальные сети, но все это не первопричина, а всего лишь триггер, который может спровоцировать человека на грани суицида — точно так же как грамотный психолог может его с этой грани увести. Причина в том, что ребенок чувствует себя изолированным и одиноким, что нарушены его социальные связи — с семьей, друзьями, коллективом, в школе.
«Суицидальное поведение появляется из двух мотивов, — перечисляет Дмитрий. — Первый — это прекращение страданий. Если жить очень больно, то появляется такая мысль, что вот я прекращу свою жизнь, и страдания тоже прекратятся. Это нарушенная логика, поскольку «нет жизни = нет страдания» — технически непроверяемое утверждение. Второй мотив — это форма экстремальной коммуникации».
Вот представьте, говорит Дмитрий, подростка травят в школе, а родители не в курсе, насколько проблема серьезна, или просто не знают, что нужно делать. И в какой-то момент ему становится настолько плохо, что он им говорит: «А я вообще жить не хочу». Тут все пугаются и начинают реагировать: ищут психолога, переводят в другую школу. Так для всех участников этого разговора суицидальное высказывание становится тем языком, на котором говорит эта семья.
В будущем, когда подросток снова будет очень сильно переживать, его мозг вспомнит, что было действие, на которое отреагировали, и вероятность повторения суицидального поведения увеличится. Но окружающие ошибаются, считая это сознательной манипуляцией.
«Ребенок ничего не пытается симулировать, — отрезает Дмитрий, — ребенок пытается как-то выживать в этой ситуации. И если окружение реагирует только на суицидальное поведение, а на обычные призывы о помощи — нет, то это окружение (непреднамеренно) начинает воспитывать в ребенке суицидальное поведение. Это ловушка для всех».
Задача родителей не в том, чтобы заблокировать все подозрительные группы в соцсетях и запретить общаться с депрессивными друзьями — поиски виноватого извне только мешают решить реальную проблему. Старания должны быть направлены внутрь, на укрепление доверительных отношений в семье, где можно говорить правду о своем состоянии.
«Суицидальное поведение возникает тогда, когда у подростка очень большой уровень стресса. Решение не в том, чтобы предупредить такое поведение, а в том, чтобы понять — ЧТО в его жизни настолько плохо сейчас, что он рассматривает смерть как выход? Если у ребенка с родителем есть взаимопонимание, то можно попробовать вместе разобраться с его проблемами и вместе обсудить условия, при которых обращение к специалисту будет уместным, — говорит Дмитрий. — Если же родители не чувствуют, что способны наладить контакт с ребенком, то имеет смысл обратиться к психологу, для того чтобы он помог договориться и понять, что происходит».
Мы не знаем, что будет с Соней дальше, когда сложный период в ее жизни закончится. Помирится ли она с подругой, станет ли ветеринаром. Но мы знаем, что ее семья — с непростой историей, где у каждого свои травмы и свои проблемы, — пытается помочь ей, и все они постепенно находят общий язык. Возможно, этого окажется вполне достаточно для долгой жизни.
takiedela.ru
 Психолог Екатерина Битюцкая о стратегиях совладания со стрессом, Ричарде Лазарусе и ригидности
Психолог Екатерина Битюцкая о стратегиях совладания со стрессом, Ричарде Лазарусе и ригидности
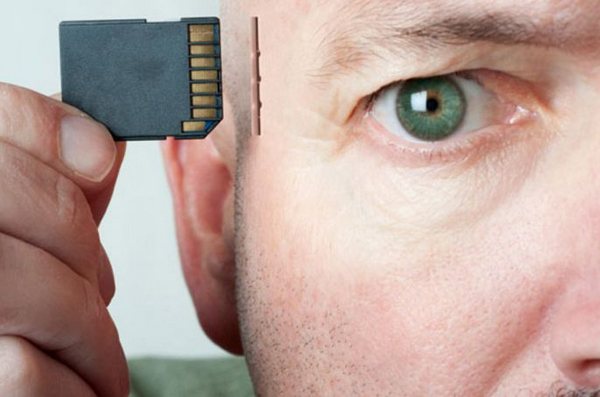 Данная статья посвящена раскрытию, авторской методики быстрой работы с негативными воспоминаниями (далее МБРВ, а в качестве более благозвучного варианта можно использовать аббревиатуру на английском – MTM (memories therapy method)).
Данная статья посвящена раскрытию, авторской методики быстрой работы с негативными воспоминаниями (далее МБРВ, а в качестве более благозвучного варианта можно использовать аббревиатуру на английском – MTM (memories therapy method)).