 Если вы страдаете тревожным или паническим расстройством, вам, скорее всего, знакомо ощущение истощения после очередного приступа. В голове словно туман, вы плохо соображаете и как будто заторможены, вам сложно сосредоточиться. Все это может сопровождаться болезненными ощущениями в теле. Как себе помочь?
Если вы страдаете тревожным или паническим расстройством, вам, скорее всего, знакомо ощущение истощения после очередного приступа. В голове словно туман, вы плохо соображаете и как будто заторможены, вам сложно сосредоточиться. Все это может сопровождаться болезненными ощущениями в теле. Как себе помочь?
ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ ПОДОБНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Важно понимать, что панические атаки и приступы тревоги — это не одно и то же. В чем их различия?
Паническая атака
Это физиологическая реакция, при которой включается режим стрессовой мобилизации организма (реакция «бей или беги»). В такие моменты вам может показаться, что у вас сердечный приступ или вы умираете. Сильнейшая тревога при панической атаке сопровождается физическими симптомами — учащенное сердцебиение, прерывистое дыхание, потливость, дрожь.
Приступ тревоги
Он обычно случается, когда мы перестаем контролировать это неприятное чувство. «В этот момент тревога словно переходит некую границу и становится невыносимой», — объясняет психолог и психиатр Дэвид Клемански, преподающий в Йельской школе медицины.
Адреналиновое «похмелье»
Во время панической атаки или приступа тревоги в организме происходят определенные процессы на химическом уровне, в результате вырабатывается большое количество адреналина. Учащается сердцебиение, дыхание становится неглубоким, прерывистым.
Затем, когда приступ проходит, это напряженное состояние, вызванное интенсивной реакцией вашей нервной системы на стресс, сменяется своего рода «похмельем» — чувством физического и психического истощения.
«Стрессовая мобилизация организма требует большого количества энергии, поэтому неудивительно, что после нее мы ощущаем сильную усталость», — подчеркивает психиатр Джессика Стерн.
«Учащенное дыхание во время приступа может спровоцировать боли в мышцах груди, также возможны проблемы с желудком, головные боли и обострение любых хронических заболеваний.
Панические атаки обычно переживаются тяжелее, чем приступы тревоги, и вызывают более заметные негативные эффекты. Обычно состояние «похмелья» после приступа длится не больше пары часов, но иногда неприятные симптомы могут сохраняться еще день или два», — объясняет Клемански.
КАК МОЖНО ОБЛЕГЧИТЬ СВОЕ СОСТОЯНИЕ
«Если вы подвержены паническим атакам или приступам тревоги, важно заранее выяснить, что лучше всего помогает вам бороться с симптомами — это позволит вам заранее быть готовыми к очередному приступу.
Психотерапия (особенно когнитивно-поведенческая терапия) может помочь научиться лучше справляться с паникой и тревогой — и со всеми их негативными последствиями», — рекомендует Дэвид Клемански.
Но что делать, если вы только что пережили сильную паническую атаку или приступ тревоги и теперь чувствуете себя истощенными и разбитыми?
- «В первую очередь попробуйте просто сделать паузу и передохнуть, чтобы успокоиться. Устройтесь поудобнее (насколько позволяет ситуация) где-нибудь в спокойном месте. Приглушите свет, включите спокойную, расслабляющую музыку — создайте максимально безопасную атмосферу, это поможет вернуть спокойствие и самообладание», — советует Джессика Стерн.
- Дэвид Клемански также рекомендует страдающим тревогой или паническими атаками практику осознанной медитации. Осознанность — это концентрация внимания на текущем моменте и на своих ощущениях (физических и эмоциональных) именно в данный момент. Практика осознанности хорошо сочетается с дыхательными упражнениями, которые помогают телу расслабиться и снимают физические симптомы тревоги.
- «Конечно же, желательно также поддерживать здоровый образ жизни — регулярно высыпаться и правильно питаться. Очень важно найти для себя кого-то, с кем вы могли бы обсудить свои переживания — это может быть как близкий друг, так и психолог или психотерапевт. Главное, чтобы общение с этим человеком помогало вам успокаиваться и укрепляло вашу психологическую устойчивость, а не усугубляло ваше беспокойство еще больше. И не пренебрегайте своим телом — если вы ведете сидячий образ жизни, постарайтесь чаще двигаться — даже если это будет всего лишь короткая прогулка или небольшая разминка», — рекомендует Джессика Стерн.
Будьте терпеливы и снисходительны к себе. Помните, что неприятные симптомы после приступа скоро пройдут. «Стоит сказать себе: «Самое худшее уже позади, сейчас важно постараться успокоиться и проявить к себе сочувствие. Я знаю, что смогу с этим справиться!» — рекомендует Дэвид Клемански.
Полностью избавиться от тревоги невозможно — она всегда будет присутствовать в той или иной мере, но можно научиться эффективно ее контролировать и справляться с чрезмерными переживаниями, стрессом и паническими атаками. В книге 101 упражнение для снижения тревожности и борьбы с назойливыми мыслями во всех сферах жизни — на работе и учебе, дома, в отношениях.
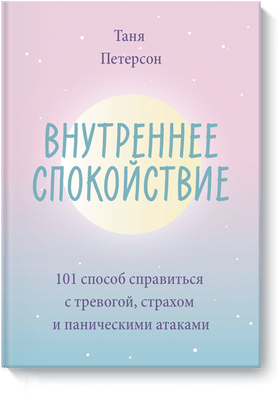
 Психолог и популярный автор Кристоф Андре стремится получать удовольствие от каждого прожитого дня. Чтобы поделиться своими успехами в этом нелегком занятии, он написал книгу «И не забудь быть счастливым». Несколько отрывков — специально для Psychologies.
Психолог и популярный автор Кристоф Андре стремится получать удовольствие от каждого прожитого дня. Чтобы поделиться своими успехами в этом нелегком занятии, он написал книгу «И не забудь быть счастливым». Несколько отрывков — специально для Psychologies.
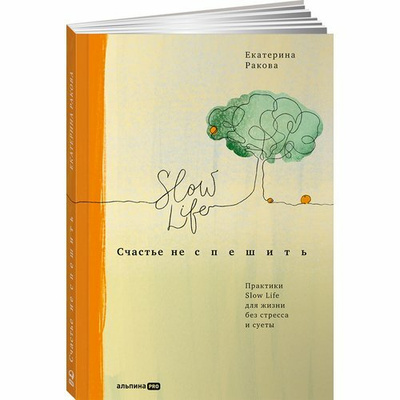
 Моя жизнь прошла при очень плохом политическом и экономическом устройстве, я тянул лямку, как рядовой советский служащий, и урывками писал что-то свое, — но я был счастлив. Обителью счастья стала та самая семиметровая комната, между кухней и уборной коммунальной квартиры, где я был несчастен накануне ареста. Я понял, что могу стать опорой другому человеку, я научился давать счастье, а не ждать, чтобы мне его принесли.
Моя жизнь прошла при очень плохом политическом и экономическом устройстве, я тянул лямку, как рядовой советский служащий, и урывками писал что-то свое, — но я был счастлив. Обителью счастья стала та самая семиметровая комната, между кухней и уборной коммунальной квартиры, где я был несчастен накануне ареста. Я понял, что могу стать опорой другому человеку, я научился давать счастье, а не ждать, чтобы мне его принесли.