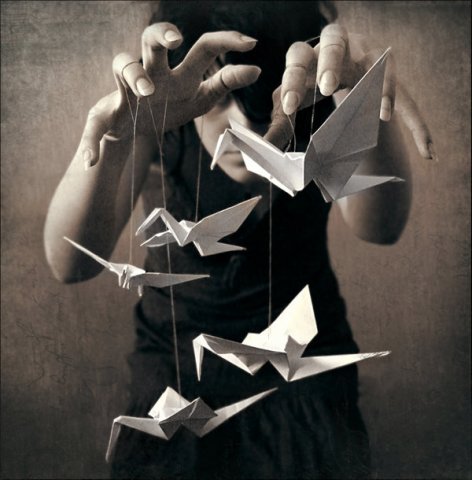 Я охотно принимаю моральный императив «прощать», ведь прощение может являться могущественной силой, исцеляющей и примиряющей.
Я охотно принимаю моральный императив «прощать», ведь прощение может являться могущественной силой, исцеляющей и примиряющей.
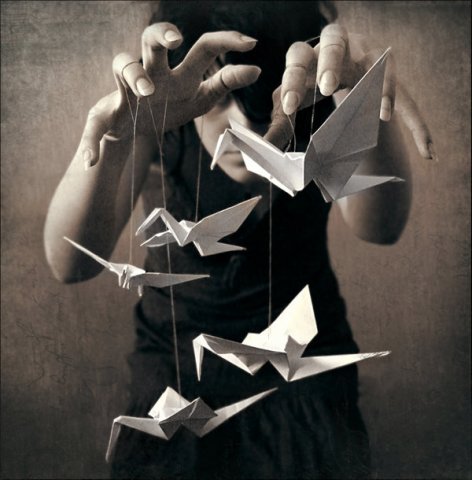 Я охотно принимаю моральный императив «прощать», ведь прощение может являться могущественной силой, исцеляющей и примиряющей.
Я охотно принимаю моральный императив «прощать», ведь прощение может являться могущественной силой, исцеляющей и примиряющей.
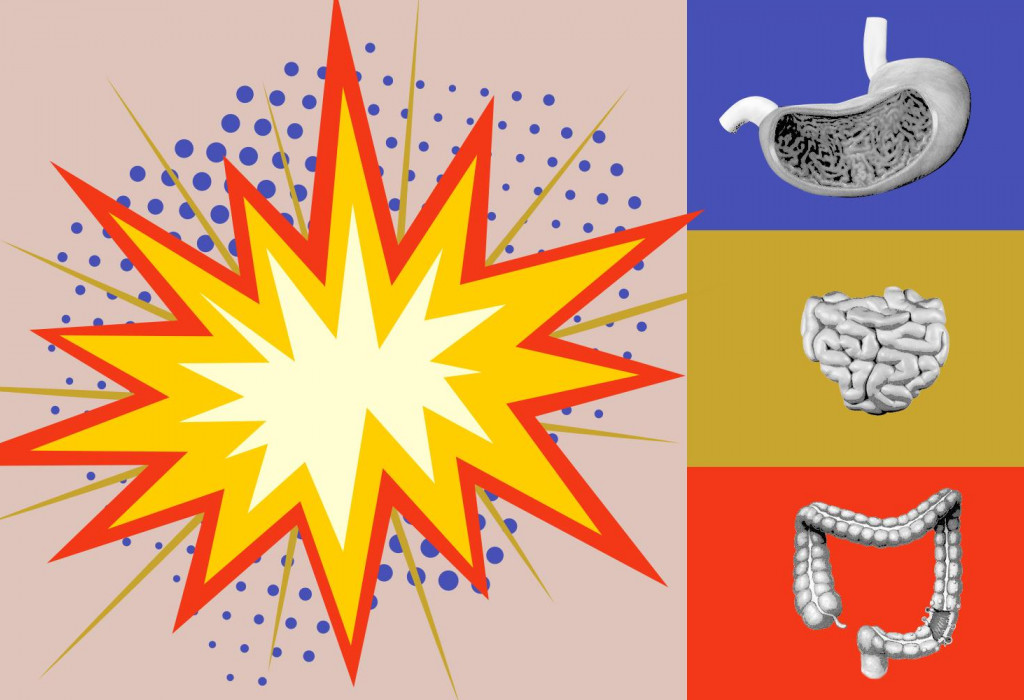 Как возникают «шоковые язвы», как нарушения двигательной активности внутренних органов связаны со стрессом и почему пациентам с болезнями ЖКТ помогают антидепрессанты
Как возникают «шоковые язвы», как нарушения двигательной активности внутренних органов связаны со стрессом и почему пациентам с болезнями ЖКТ помогают антидепрессанты
Один из «крестных отцов» физиологии стресса Ганс Селье в 1930-х годах заметил, что у крыс, которые испытывали неприятные переживания в течение длительного времени, возникали язвы. Сегодня нейрогенная теория язвы отошла на задний план, уступив место бактериальной, но со стрессом до сих пор связывают многие болезни желудочно-кишечного тракта, хотя эта связь не всегда прямая и очевидная. Гастроэнтеролог Алексей Парамонов объясняет, как стресс влияет на работу пищеварительной системы. Материал создан в рамках гида «Хороший / плохой стресс».
Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов. Упоминаемые в статье лекарства и методы лечения не являются медицинской рекомендацией. Лекарства и методы лечения может назначать только лечащий врач!
Заболевания желудочно-кишечного тракта можно разделить на органические, которые связаны с поражениями различных органов, и функциональные, которые ассоциированы с нарушениями моторной функции и висцеральной чувствительностью. В числе органических заболеваний — гастриты и язвы, а среди функциональных расстройств наиболее известны функциональная диспепсия и синдром раздраженного кишечника. На развитие и тех и других заболеваний стресс может оказывать влияние в разной степени. Чаще всего он не является единственной причиной этих состояний, а усугубляет действие прочих факторов.
Гастрит и язвы — это воспаления и дефекты на стенках органов: желудка, пищевода, двенадцатиперстной кишки. Они образуются в результате действия соляной кислоты и пепсинов — ферментов, с помощью которых происходит расщепление белков, — на слизистую оболочку органа. Эти заболевания часто связывают со стрессом, но эта связь сложнее, чем может показаться на первый взгляд.
Одним из первых связь между стрессом и органическими заболеваниями ЖКТ увидел Ганс Селье. Он заметил, что у крыс, которые длительное время подвергались воздействию стрессоров, появлялись язвы. Нейрогенная теория язвенной болезни на долгое время стала ключевой, и, когда появились исследования, в которых возникновение язв связывалось с бактерией Helicobacter pylori, медицинское сообщество долгое время не воспринимало их всерьез. Но сегодня стресс не доминирует в списке причин развития язв и гастрита: на первом месте с огромным отрывом оказывается бактерия Helicobacter pylori, которая производит ферменты, разрушающие слизь — естественную защиту органов от действия соляной кислоты; на втором — прием нестероидных противовоспалительных препаратов.
Язва, возникшая только из-за эмоционального стресса, — это экзотика. У большинства пациентов с язвой или язвенным кровотечением выявляют Helicobacter pylori, и стресс лишь ей сопутствует. Дело в том, что сам по себе стресс не является единственной причиной заболеваний ЖКТ — он скорее усиливает прочие факторы.
А вот физический стресс в некоторых случаях может иметь тяжелые последствия для желудка. У людей, которые подвергаются сложным хирургическим операциям или получают серьезную травму, есть повышенный риск образования «шоковой» язвы. Она может появиться буквально за несколько часов. Считается, что это связано с выбросом веществ, которые вызывают снижение кровоснабжения ЖКТ, сужение сосудов и, как следствие, повреждение эндотелия стенки желудка из-за нехватки кислорода и питательных веществ — своего рода локальную ишемию. Хирурги знают об этих рисках и занимаются профилактикой шоковых язв.
В последние годы ввиду активной борьбы с бактерией Helicobacter pylori ассоциированные с ней органические заболевания, такие как гастриты и язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, стали менее распространенными, чем раньше. На первый план вышли функциональные расстройства, которые присутствуют у 70–90% пациентов и которые часто связаны со стрессом. Советская медицина не рассматривала функциональные расстройства ЖКТ как полноценную группу заболеваний и укладывала их в такие абстрактные и полумистические понятия, как вегетососудистая дистония, невроз желудка и невроз кишечника. Поэтому в России до сих пор наблюдаются трудности с диагностикой и лечением этих заболеваний.
Функциональные расстройства ЖКТ — это большая группа заболеваний. Их описанием и классификацией занимается «Римский фонд» — международная группа гастроэнтерологов. Актуальная на сегодняшний день информация содержится в разработанных ими «Римских критериях IV». Если не углубляться в детали, почти все проявления, описанные в этом документе, укладываются в два состояния: функциональная диспепсия и синдром раздраженного кишечника с подвариантами.
Функциональная диспепсия характеризуется изменением чувствительности нервных рецепторов в стенке желудка, двенадцатиперстной кишки и пищевода и изменением двигательной активности этих органов.
Похожие механизмы могут реализовываться на уровне кишечника, провоцируя боль в животе, бурление, понос или запор — комплекс этих проявлений и называют синдромом раздраженного кишечника (СРК).
Обычно функциональная диспепсия проявляется болью, чувством переполнения, дискомфорта, иногда изжогой, отрыжкой. Эти симптомы возникают на фоне неизмененного желудка при гастроскопии. И даже если взять биопсию желудка, не обнаружится никакой связи между выраженностью микроскопических изменений и выраженностью симптомов.
Но не стоит думать, что функциональные расстройства диагностируют только в том случае, если не найдено никаких органических повреждений. Язвы и гастриты могут сопровождать функциональные расстройства и даже быть их следствием. Например, на фоне стресса у человека, ведущего здоровый образ жизни, может возникнуть функциональная диспепсия с изжогой, при которой кислота из желудка выбрасывается в пищевод и провоцирует язву. У пациента может одновременно быть гастрит и функциональная диспепсия. Гастрит важно лечить, потому что длительное нахождение Helicobacter pylori в желудочно-кишечном тракте коррелирует с повышенным риском развития рака, и лечение гастрита выступает здесь профилактикой. Но чтобы помочь пациенту здесь и сейчас, необходимо бороться с функциональной диспепсией, которая доставляет человеку много страданий, в отличие от гастрита, который легко контролируется противокислотными препаратами и почти не вызывает боли.
Еще одно функциональное расстройство из «Римских критериев IV» — спазм сфинктера Одди. Сфинктер — это круговая мышца, которая находится в месте, где желчный проток впадает в двенадцатиперстную кишку. У многих людей анатомия такова, что этот же сфинктер контролирует и выход поджелудочного сока. Туда же впадает и вирсунгов проток поджелудочной железы. У некоторых людей они разделены.
Проявления спазма сфинктера Одди могут быть жесткими: высокоинтенсивная боль в правом подреберье, которая может отдавать в спину, грудь и даже в челюсть и нередко сопровождается рвотой и чувством тяжести в желудке. Если приступы повторяются, это может быть бескаменный холецистит или панкреатит. Но в большинстве случаев это дисфункция сфинктера Одди (раньше употреблялось название «дискинезия желчевыводящих путей»). При частых и длительных спазмах сфинктера Одди уровень печеночных ферментов может повышаться, и возникает иллюзия, что происходит повреждение печени.
Спровоцировать спазм может определенная пища, например сочетание жирного с холодным. Кроме того, гиперреактивность, готовность этого сфинктера сокращаться зависит от эмоционального фона — наличия тревоги или депрессии.
С функциональной диспепсией ассоциированы психологические феномены, такие как тревога, депрессия, астения, апатия. С биохимической точки зрения они связаны с нехваткой нейромедиаторов, таких как норадреналин, серотонин и дофамин, которые обслуживают в том числе работу внутренних органов.
Деятельностью желудочно-кишечного тракта управляет часть автономной (вегетативной) нервной системы, которая называется энтеральной нервной системой. Составляющие ее нервные сплетения располагаются в оболочках полых органов, таких как пищевод, желудок, тонкая и толстая кишка, в желчных и панкреатических протоках. Они регулируют работу гладких мышц органов, обладающих сократительной активностью. В клетках этих мышц содержатся различные рецепторы (дофаминовые, серотониновые, адренорецепторы), которые реагируют на выделение тех или иных нейромедиаторов. Посредством влияния на них достигается согласованность в работе органов. Вторым этажом идет управление, связанное с центральной нервной системой и высшей нервной деятельностью.
Из-за дефицита серотонина и норадреналина в районе синапсов головного мозга и синапсов нервных узлов в стенке кишечника нарушается двигательная активность и повышается чувствительность желудка к соляной кислоте, с помощью которой переваривается пища. Желудок, который предназначен для того, чтобы в нем постоянно находилась кислота, внезапно начинает ее ощущать и транслировать эту информацию в мозг как боль. Возникают активные рефлюксы: желудок внезапно сжимается и с силой выбрасывает свое содержимое в пищевод. При синдроме раздраженного кишечника похожие механизмы развиваются на уровне кишечника.
Если болезненные ощущения возникают регулярно и они мучительны, то, даже если у пациента исходно не было каких-то эмоциональных расстройств, у него со временем могут появиться тревога, усталость и депрессия. Эти явления поддерживают друг друга, и возникает порочный круг: депрессия провоцирует функциональные расстройства, а функциональные расстройства — депрессию.
Симптомы функциональной диспепсии могут беспокоить человека долгие годы и нарушать качество жизни. При этом они плохо слушаются препаратов. Поэтому ее лечение многоступенчатое.
Согласно рекомендациям «Римских критериев IV», которые представлены в виде так называемой пирамиды лечения, первое, что нужно сделать, — привести в порядок образ жизни пациента с функциональной диспепсией. Рекомендуется не переедать, заниматься физической активностью, спать достаточное количество часов, регулярно отдыхать от работы. Второй этаж пирамиды — препараты, которые влияют на гастроэнтерологические симптомы: прокинетики или спазмолитики, а также ингибиторы протонной помпы, которые подавляют кислоту. Третьим компонентом является когнитивно-поведенческая психотерапия и психотропные препараты. Также исследуется эффективность медитации и гипнотерапии. На четвертом этаже пирамиды — соединение всех вышеперечисленных методов. Иногда такое лечение затягивается на месяцы и годы, но люди выздоравливают.
При синдроме раздраженного кишечника методы лечения примерно те же, за тем исключением, что ингибиторы протонной помпы, подавляющие кислоту, не применяются.
Колоссальный прогресс в лечении функциональных расстройств произошел с внедрением в схему антидепрессантов. Если до этого успешными признавались не более 20% курсов лечения, то при использовании психотропных препаратов успех приходит в 80% случаев. Наибольшую доказательную базу из всех психотропных препаратов сейчас имеют некоторые виды антидепрессантов: классический трициклический амитриптилин (но из-за тяжелых побочных эффектов его редко назначают) и более современные дулоксетин и сертралин. В последнее время появились исследования и по другим препаратам. Механизм действия антидепрессантов в случае с функциональными расстройствами ЖКТ пока до конца не ясен. В самом общем виде: антидепрессанты повышают уровень серотонина и норадреналина в районе синапсов головного мозга и нервных узлов в стенках органов, что снижает болевую чувствительность. Антидепрессанты используются как обезболивающие препараты не только в гастроэнтерологии — они высокоэффективны при боли в суставах или тройничном нерве, причем работают вне зависимости от наличия депрессии у пациента.
Тем не менее прямая связь функциональных расстройств со стрессом выглядит упрощенной. В любом справочнике или руководстве по функциональным болезням есть фраза, что механизм их развития до конца не понятен. У некоторых пациентов не выявляется никаких психологических расстройств, им не помогают антидепрессанты и психотерапия, а проблема остается. У значительного числа людей синдром раздраженного кишечника впервые возникает после перенесенной кишечной инфекции. Многие исследователи пытались найти у людей с СРК воспаления, но их нет в кишечнике в том виде, в каком мы их привыкли видеть под микроскопом (инфильтрация воспалительными клетками). Микроскопические воспалительные нарушения можно зафиксировать, лишь измерив концентрацию определенных молекул и сравнив ее с нормой.
И самое интересное. Одна из разновидностей синдрома раздраженного кишечника, которая сопровождается диареей, недавно получила диагностический лабораторный маркер — антитела к бактериальному цитолетальному разрыхляющему токсину (CLTD). Исследование внедрено в практику пока только в США. Эти антитела достаточно четко коррелируют и позволяют с высокой чувствительностью и специфичностью выше 90% определять эту форму синдрома раздраженного кишечника.
Возникает вопрос, что это: последствие инфекционных заболеваний или все-таки последствие стресса? Противоречие здесь кажущееся. Микробные токсины, антитела к которым определяют в лаборатории, отражают исходную агрессию микроба, из-за которой произошло повреждение нервной системы самого кишечника, нервных окончаний и иногда нервных узлов, которые находятся в стенке кишки. Это закладывает основу для синдрома раздраженного кишечника. На восстановление нервной системе требуется несколько месяцев. Похоже, что у предрасположенных людей в условиях стресса восстановление происходит неадекватно. У них формируются неправильные рефлексы, когда кишка двигается слишком активно или кишка многократно спазмирует, как при варианте с запорами, и не отдает свое содержимое.
Таким образом, как бы сейчас мы ни рассуждали о возможной органической подоплеке этих заболеваний, практических выводов кроме диагностики по антителам пока нет. Противовоспалительные препараты неэффективны. Есть отдельные работы по пробиотикам, что они могут улучшать течение болезни, но эффект их не очень значителен. Кроме того, эти исследования не очень высокого уровня. Основными препаратами, которые действительно позволяют менять прогноз и качество жизни пациентов с функциональными расстройствами, сегодня остаются спазмолитики в сочетании с антидепрессантом и когнитивно-поведенческая психотерапия.
 В стихотворении Тютчева “Silentium!” кто-то услышит голос капризного одиночки, украшающего свою социопатию пафосом неразгаданности, кто-то распознает в говорящем мудреца, который указывает на интересную особенность мироустройства, а точнее, на две особенности, две непреодолимые сложности в людском общении. Во-первых, оказывается, что интерсубъектность иллюзорна – “Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя?”. Во-вторых, вербализация не работает, феноменологический опыт не переводится на язык человеческих слов – “Мысль изреченная есть ложь”. Невозможно пересказать другому человеку собственный мир (“Есть целый мир в душе твоей”), потому человек человеку – витгенштейновский лев (Витгенштейн: “Если бы лев умел говорить, мы бы его не поняли”).
В стихотворении Тютчева “Silentium!” кто-то услышит голос капризного одиночки, украшающего свою социопатию пафосом неразгаданности, кто-то распознает в говорящем мудреца, который указывает на интересную особенность мироустройства, а точнее, на две особенности, две непреодолимые сложности в людском общении. Во-первых, оказывается, что интерсубъектность иллюзорна – “Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя?”. Во-вторых, вербализация не работает, феноменологический опыт не переводится на язык человеческих слов – “Мысль изреченная есть ложь”. Невозможно пересказать другому человеку собственный мир (“Есть целый мир в душе твоей”), потому человек человеку – витгенштейновский лев (Витгенштейн: “Если бы лев умел говорить, мы бы его не поняли”).
Философы разными способами опровергают солипсизм, штурмуя проблему “Другого сознания”.
“Проблема выражается двумя основными вопросами: 1) каковы критерии или достаточные основания для того, чтобы установить наличие или отсутствие субъективной реальности у другого существа (а не только способности совершать разумные действия) и 2) как возможно и как достигается познание и понимание “содержания” субъективной реальности у другого существа (прежде всего у человека, хотя это должно быть отнесено и к животным, у которых тоже есть субъективная реальность, хотя и отличающаяся от нашей по ряду существенных свойств)” [1].
В этой проблеме, медико-психологическая оптика подсвечивает то, что связано с интерсубъектным взаимодействием. Психиатр нуждается в быстром и надежном доступе к контенту сознательных состояний пациента. Помимо практических потребностей, возникающих в ходе лечения конкретного пациента, существуют еще и установки мировой науки, ждущей от исследователя объективности и приверженности принятым стандартам качества. Для изучения (и лечения) внутреннего мира необходим набор универсальных концепций, чья валидность не зависит от личных предпочтений исследователя, его языковых компетенций и культурного контекста.
Человек, рассказывающий о том, что он переживает, скорее всего, пользуется обычным языком, не стараясь подбирать “научные” термины для описания состояний своей психики. Если говорить о психопатологии, то изучение феноменов “больной” психики безмерно усложняется тем, что рапорт пациента загрязнен множеством шумов. Способ самовыражения при болезни не может быть таким же, как в условно нормальном состоянии. Аномальные внутрипсихические феномены не могут сочетаться с корректной техникой составления рапорта. Дискурс, т. е. речевая стратегия, не существует независимо, в отрыве от царства феноменов. У аномального содержания аномальная форма, т. е. “как на уме, так и на языке”. (Яркий пример из области психиатрической диагностики – характерное для некоторых расстройств неумение пользоваться метафорами.)
Универсальность терминов, подобранных для описания внутрипсихического ландшафта, проверяется переводом на другой язык. В феноменологической психиатрии термины маркируют сложные явления, для обозначения которых редко в каком-либо языке можно подобрать точно соответствующее одно-единственное слово. То, что Роман Якобсон писал о переводе, особенно актуально для перевода психиатрических терминов:
“Чаще всего при переводе с одного языка на другой происходит не подстановка одних кодовых единиц вместо других, а замена одного целого сообщения другим. Такой перевод представляет собой косвенную речь; переводчик перекодирует и передает сообщение, полученное им из какого-то источника. Таким образом, в переводе участвуют два эквивалентных сообщения, в двух различных кодах. Эквивалентность при существовании различия – это кардинальная проблема языка и центральная проблема лингвистики” [2]. Данное описание процесса перевода применимо не только к межъязыковому переводу, но и к передаче сообщения от одного носителя языка другому, например, от пациента врачу.
В итоге положение вещей, которое складывается при переводе слов, обозначающих психические феномены, выглядит как пирамида невозможностей.
Базовая невозможность – невыразимость субъективного опыта инструментами языка. Не все осознается; не все осознаваемое концептуализируется; не все концепты можно выразить словами и, наконец, есть причины сомневаться в том, что познание чужой субъективности вообще реально (Левинас: “Если бы возможно было познать другое – оно не было бы другое”).
Уровнем выше обнаруживается более специфическая невозможность, та, что мешает именно психиатрической науке – неадекватность рапорта больного человека.
И верхняя ступень пирамиды – некорректность переводов, из-за которой в психиатрической диагностике фатально сохраняется национальный уклон.
Психодиагностика должна иметь свой терминологический аппарат. Если психиатрия это наука, то в ней должна быть своя латынь, кодировка, считываемая любым “устройством”, как это происходит с нотной грамотой, открытой для чтения людьми разных народов, живущих в разные времена. Пациент, по умолчанию, не обучен этой грамоте и не обязан подстраивать свой частный дискурс под стандарты чьей-то профессии. Но тот, кто собирает данные о переживаниях пациента, по идее, должен стремиться к точности описания.
На практике создание такого стандартизованного вокабуляра, некой универсальной психодиагностической латыни, затрудняется тем, что материал для исследований в психиатрии собирается из живой речи пациента. Чем искреннее и проще человек говорит о своих переживаниях, чем естественнее и чем менее “терминологична” его речь, тем больше возможностей для внешнего анализа (фрейдовский метод свободных ассоциаций доводит эту тенденцию до предела). Натуральность и произвольный стиль принципиально важны там, где от подлинности самораскрытия зависит то, что называется принятие клинических решений.
Для научной систематизации более ценна возможность отфильтровать все культур-специфическое и оценить полученные данные в соответствии с чем-то вроде международных метрологических стандартов в области медицинской психологии.
Возможна ли психодиагностическая метрология? Созданию международной системы СИ для измерений психических феноменов всегда будет мешать человеческая склонность к вчитыванию собственных смыслов в чужой текст.
Невозможно представить двусмысленную интерпретацию введенного Французской академией наук в XVIII в. определения метра как одной сорокамиллионной части пути от северного полюса до южного, проложенного по парижскому меридиану. В мире, в котором мы живем, только один Северный полюс, только один Южный полюс и только один Париж. Используя эти точки в пространстве, так же, как скалолаз использует крюки для крепления страховки, можно создать единую, универсальную систему отсчета, что и было сделано авторами метрической системы.
На карте психической реальности нет полюсов и Парижа. Более того, такой карты, признаваемой всеми заинтересованными лицами, не существует. Каждый автор книги по психологии, каждый тренер личностного роста и каждый изобретатель новой “психотехники” начинает с рисования собственной версии карты психики. Объект изучения, будь то научный анализ или вольные рефлексии поп-психологов, оказывается похожим на плавучий остров – без четкой линии берегов, без стабильных координат. Если бы материальному миру была свойственна такая же аморфность и нестабильность, какая свойственна психическому, то метрологам пришлось бы постоянно переопределять метр и другие единицы измерения. (Для большей четкости современное определение метра привязано не к расстоянию между полюсами, а к дистанции, которую преодолевает свет в вакууме за определенный интервал времени.)
Инструменты, которыми принято пользоваться при сборе информации в медицинской психологии, в большинстве своем выглядят как шаблоны для подбора текстовых эквивалентов для чувств. Диагностические опросники – это кем-то заранее подготовленные комбинации слов, которые предлагается сопоставить с фактами внутреннего мира.
Психологические опросники вроде бы существуют в том же лингвистическом пространстве, что и поэзия – там, где ценится раскрытие чувств. Но перевод опросников направляется совсем не теми принципами, что перевод поэзии. Переводчик стихов хочет вызвать у читателя перевода тот же эмоциональный ответ, что вызывает оригинальный текст. Перевод опросника нацелен не на создание похожего эстетического объекта, как в поэзии (что, кстати сказать, практически невозможно – поэзия существует только на языке автора), а на подбор слов, помогающих понять о каком психологическом состоянии сообщает пациент.
Айвор Ричардс говорил, что перевод – это самое сложное событие, из когда-либо происходивших в эволюции космоса. Про перевод устных или письменных описаний психологических состояний, наверное, можно сказать, что космос в своей эволюции еще не дорос до решения такой задачи.
Основной метод проверки качества перевода диагностического опросника – обратный перевод независимыми переводчиками. Один переводит с первого языка на второй, другой переводит получившийся текст обратно, на первый язык.
Другой метод – проверка на билингвальных респондентах. Слабость этого метода в том, что у билингвов особенные семантические структуры, не такие как у обычных людей, а опросники все-таки разрабатываются не для полиглотов, а для более типичных представителей популяции.
К тому же проверка перевода на билингвах строится на сильном допущении – если перевод корректен, то билингв должен дать идентичные ответы на все вопросы обеих версий опросника. Но если оба опросника заполняются в один и тот же день, опрашиваемый помнит собственные ответы в первом опроснике и выбирает те же ответы в опроснике на втором языке.
Язык билингвов – язык необычных людей. Необычность настолько сильна, что до 1960 гг. билингвальность рассматривалась как болезнь, мешающая образованию. Детей иммигрантов на Западе приучали не говорить на домашнем языке в школах, пока не появились исследования, показавшие, что билингвы нередко учатся лучше монолингв [3].
Когда разнозячные варианты опросника проверяют в соответствующих языковых группах, предполагается, что частота определенного психического феномена одинаково распределена в этих языковых группах. Например, нас интересует качество перевода теста на тревожность. Вопрос с описанием конкретного признака тревожности, если он переведен точно, должен получить одинаковое количество положительных ответов в разноязычных группах. Можно ли считать такой перевод удачным в тех случаях, когда достоверно известно, что в разных языковых сообществах, по каким-то неизвестным науке причинам, данный симптом встречается с разной частотой?
Допустим, что лингвистическая эквивалентность перевода признается доказанной, если опрашиваемые люди из разных языковых групп, с одинаковым состоянием психики. с одинаковой вероятностью дают одинаковые ответы на один и тот же вопрос. Но на каком основании мы говорим об одинаковости состояний их психики? Прежде чем работать над лингвистическим совершенством переводного опросника, следует убедиться в том, что пациенты сообщают об одном и том же ментальном событии, когда используют одно и то же слово или его иноязычный эквивалент.
Есть биологические факты, которые слишком очевидны, чтобы можно было запутаться в словах, которыми эти факты обозначаются. Биологическое состояние трупа однозначно, объективно наблюдаемо и его обозначение не зависит от особенностей лингвокультуры говорящего, поэтому довольно легко перевести слово “мертвый”. В психике живого человека таких состояний – простых и доступных для недвусмысленного описания – не бывает.
Если только не пытаться использовать принципиально другой способ говорить о ментальном – нейрореалистический язык, в котором нет человеческих слов. Галилей говорил о том, что Вселенная написана на языке математики, кругами и треугольниками. Вероятно, многие проблемы современной психиатрии потеряют актуальность, когда книгу о психике хотя бы частично переведут на язык “кругов и треугольников”, т. е. на язык нейробиологии.
Английский язык – язык современной науки, койне Запада. Отсюда уклон, который проявляется на этапах, предшествующих собственно переводу с английского. Смещение начинается с выбора проблем для изучения и подбора категориального аппарата. В психологических исследованиях легче, чем во многих других сферах жизни, обнаруживаются подтверждения гипотезы лингвистической относительности (гипотеза Сепира-Уорфа), т. е. иллюстрации того, что язык ограничивает и определяет мышление.
В приложении к медицинской психологии принцип лингвистической относительности утверждает приоритет когнитивного над аффективным. Лингвистическая относительность означает, что аффект никогда не бывает чистым биохимическим фактом, аффективное состояние не существует без когнитивных конструкций.
“У эмоций есть значение и эти значения играют определенную роль в том, как мы чувствуем. Что значит чувствовать гнев… это не одно и то же для илонгота, верящего в то, что чувство гнева столь опасно, что может разрушить общество; для эскимоса, для которого гнев – нечто, испытываемое исключительно в детском возрасте; для американских рабочих, считающих, что гнев помогает преодолеть страх и добиться независимости” [4].
В психотерапевтических целях полезно укреплять отношение к когнитивным функциям как к ведущей силе в психике, способной управлять эмоциями. Однако, с нейрофизиологической точки зрения, говорить об аффективных состояниях как о продукте, произведенном из сырья, привезенном из когнитивной фабрики в лобных долях, не совсем верно. (Подробнее о взаимопереплетении когнитивного и аффективного см. Д. Филиппов (2019) Игры сознания.)
Эдинбургская шкала послеродовой депрессии (EPDS) – созданный в 1987 г. опросник для амбулаторного скрининга в течение 6-8 недель после родов. В 2003 г. его перевели на испанский, а в 2006 г. специально адаптировали испанский перевод для Мексики.
При использовании EPDS возникла проблема с одним утверждением, с которым респондентка должна согласиться или не согласиться. В английском оригинале это утверждение звучит так: “I have felt sad or miserable” [5]. (Русские варианты: “Я грустила или была несчастна”6, “Я грустила или чувствовала себя несчастной”7, “Я ощущаю печаль или тоску” [8].) В испанском переводе 2006 г. – ‘‘Me he sentido triste y desgraciada’’. В исследовании 2011 г., посвященном связи постнатальной депрессии с набором веса у детей, женщины почему-то категорически не соглашались с этим утверждением, хотя по всем остальным признакам у них вне всякого сомнения была депрессия.
Оказалось, что у слова “desgraciada’’ разные оттенки в разных версиях версиях испанского языка. В Оксфордском словаре 2009 г. это слово переводится на английский как “unhappy, ill-fated, unfortunate”, т. е. “несчастный, обездоленный”. В словаре латиноамериканского испанского 1996 г – то же самое. Однако в мексиканском испанском у этого слова есть весьма специфические оттенки, которые очевидны для жителей юга и севера Мексики, но непонятны в центральной Мексике, где EPDS проходил валидацию в 2006 г. “Desgraciada’’ – это “рогоносец; ребенок проститутки; гнилой, жалкий сукин сын”. Получается, что при заполнении опросника женщина должна была определиться с ответом на вопрос “Чувствовала ли она себя в последнее время гнилой и жалкой сукой?” [9].
Кхмеры Камбоджи пережили в 1975-79 гг. геноцид и, по идее, в этой популяции должно быть много случаев посттравматического стрессового расстройства. Однако такой диагноз кхмерам, эмигрировавшим на Запад, ставится как-то подозрительно редко [10]. К 2000 гг. причина прояснилась. В диагностических интервью кхмеры уверенно подтверждали то, что они довольны своей жизнью и не жалуются на судьбу. Западные психологи трактовали это как признак душевного баланса и благополучия. Спокойное согласие с судьбой, мирное принятие бытия со всеми его противоречиями присуще культуре некоторых восточных народов. Западные опросники с вопросами о принятии/непринятии прошлого и настоящего не попадали в цель.
Самая радикальная аналогия для подобной диагностической ошибки, которая приходит в голову, это гинекологический осмотр мужчины. Гинеколог, пытающийся что-то диагностировать у пациента мужского пола, в принципе не может получить ответы на свои вопросы, как бы точно они ни были сформулированы. Конечно, разница лингвокультур не сопоставима с разницей физиологий. Радикальность этой аналогии помогает представить ситуацию, в которой на неуместные вопросы даются бессмысленные ответы.
Другой момент, затруднявший диагностику ПТСР у кхмеров, связан с тем, как представители этого народа привыкли концептуализировать травматические события. Для описания своего опыта они использовали идиому baksbat (“сломанная храбрость”). Это страх, возникающий после травмирующего события (страх после страшного), надолго остающаяся психологическая слабость. Для baksbat характерно нежелание делиться своими эмоциями – отсюда недостаточная диагностика ПТСР. Скрытность, непризнание страха – это важная часть baksbat. Геноцид Пол Пота погрузил весь народ в состояние baksbat. Но, как считали многие кхмеры, это не патология, а нормальная реакция, соответствующая традиционному, патриархальному восприятию власти. Неприятные чувства, которые, с позиции западной психиатрии, являются симптомами ПТСР, опрошенные кхмеры связывали с избыточной концентрацией на мыслях о пережитом, т. е. причиной дистресса они считали не сам геноцид, а избыток воспоминаний о нем.
Опросники для диагностики депрессии нередко содержат вопросы или целые разделы, посвященные чувству вины. Например, Шкала депрессии Гамильтона предполагает, помимо прочего, оценку чувства вины, степень которого варьируется от “самоуничижения” до “вербальных галлюцинаций обвиняющего и/или осуждающего содержания”.
В языке тараумара, индейского народа, проживающего на севере Мексики, нет слова для обозначения чувства вины [11]. Для вины в юридическом смысле слово существует, но для чувства вины нет описания. Означает ли это, что тараумара никогда не переживают то чувство, которое тестируется Шкалой депрессии Гамильтона? Или причина в том, что в их культуре нет такого конструкта – “чувство вины”?
В мозге тараумара может происходить ментальное событие, о котором западный человек сообщил бы с помощью фразы “Я чувствую себя виноватым”, но лингвокультура тараумара не предлагает словесной оболочки для этого чувства. Зато есть слово для выражения стыда, которое, судя по всему, используется и для описания переживания своей виноватости.
Отсутствие чувства вины в симптомокомплексе депрессивных пациентов, воспитанных в незападной культуре, объясняют по-разному. В числе версий, объясняющих эту особенность, выделяется та, что указывает на контекст, в котором собирается информация.
Исследователи обратили внимание на то, что культурологические изыскания показывают сильную ассоциативную связь вины с депрессией у японцев. В клинических разборах, напротив, отмечается, что чувство вины нехарактерно для японских пациентов с депрессией.
“Возможно, выявлению этой связи способствует характер нашей задачи (составление лексикона эмоций с использованием нормальных выборок), тогда как отношения типа “вышестоящий-подчиненный”, характерные для клинических исследований (в которых пациенты с диагностированной депрессией обычно общаются с западным психиатром или психиатром, учившимся на Западе), мешают выражать чувство вины, признавая тем самым свою несостоятельность. В некоторых незападных сообществах людям сложно, а иногда просто невозможно, признать свою несостоятельность и вызванное ей чувство сожаления и вины в беседе с незнакомцем, занимающим авторитетное положение” [12].
Приведенные примеры относятся к наиболее сложным аспектам транскультурной психологии. Есть сложности, которых можно избежать, достаточно только более внимательно отнестись к переводу. Выбор некорректной лексической пары может привести к искажению результатов психологических исследований.
Так произошло с Миннесотским многоаспектным личностным опросником (MMPI). Тестирование с его помощью показало заметную разницу показателей в шкале “Выраженность мужских и женских черт характера” у англоязычных респондентов и у тех, кто пользовался французским переводом MMPI13. Причина, по всей видимости, в неудачном переводе некоторых фраз. Например, “I used to like hopscotch” было переведено как “J’aimais jouer a saute-moutons”. (В русском переводе “Я любил(а) играть в классы” [14].) Английское “hopscotch” и французское “saute-moutons” – игры с разными гендерными оттенками. Hopscotch – классики, игра для девочек; saute-moutons – чехарда, игра для мальчиков.
Перевод на некоторые языки вопроса “Have you been hearing voices?” (“Вы слышите голоса?”) будет таким, что пациент, скорее всего, ответит “Конечно, я вас слышу!” или “Все нормально, доктор, я не глухой”. Приходится искать комбинации слов, которые в обратном переводе означают “Вы слышите звуки как будто говорят люди, хотя никого нет рядом?” [15].
Сложнее и ответственнее, учитывая психиатрическую специфику, переводить метафоры. Практически любое слово, используемое для метафорического описания психического опыта, может быть переведено ошибочно.
В контексте психологических опросников английское слово “heart” (“сердце”) на хмонгский язык должно быть переведено как “печень”. Для выражения дисфории и плохого настроения хмонги (народ, живущий в южном Китае, Вьетнаме и Лаосе) пользуются метафорами, связанными с печенью. Одинокая печень – состояние удаленности от любимых людей. Длинная печень – терпеливый человек. Упавший печенью – упавший духом [16].
Вряд ли можно определенно сказать, какая ситуация в большей степени компрометирует психодиагностику – разные рапорты пациентов тогда, когда болезнь у них одна и та же, или одинаковые рапорты пациентов при том, что болезни у них разные.
Для постановки диагноза важно составить представление о телесных переживаниях, т. е. о степени соматизации. Чем ближе культура к Западу, тем реже в симптомокомплексе психических расстройств встречается соматизация. В незападных культурах рапорт о психических проблемах может целиком состоять из жалоб на соматические симптомы [17]. Грусть и пониженный жизненный тонус понимаются как следствие какой-то болезни, но не как симптомы самой болезни.
Исследование в Уганде в 1972 г. показало любопытные различия между жалобами депрессивных пациентов, которые знают английский (государственный язык в Уганде) и получили образование, и сообщениями малограмотных пациентов, живущих в нищих деревнях [18]. Необразованные никогда не использовали слов аналогичных слову “депрессия”. Они говорили, что чувствуют слабость, вызванную непонятными проблемами с физическим здоровьем. В отличие от них образованные чаще рассказывали о грусти, несчастности и тяжелой жизненной доле. Но даже в группе образованных пациентов подавленное настроение не являлось первичной жалобой, они чаще говорили о грусти как о следствии того, что они физически больны. Кроме того, те, кто не владел английским, не говорили о вине и чувстве ненужности. Антропологи, занимающиеся этнопсихологией, свидетельствуют, что это вообще характерно для африканцев в депрессии – они не говорят, что чувствуют бессмысленность своей жизни, и не обвиняют себя во всем подряд.
В 1960 гг. публиковались работы с описанием подобного явления у китайцев.
“Китайский язык не используется для выражения депрессивного аффекта, в нем нет употребительного глагола для этого. Исследователи описывали китаянку, жившую в Бостоне, которая по-английски жаловалась врачам на депрессию, а дома говорила мужу по-китайски, что она “устала”. /…/ Китайцы беспокоятся о теле и довольно легко прибегают к соматизации. Они склонны к проявлению неврастенической и ипохондрической симптоматики” [19].
Разумеется, это очень неточное описание возможностей китайского языка. Слов для выражения того, что переживает человек с депрессией, там достаточно. Отсутствие обобщающих понятий, например, слова эквивалентного слову “депрессия”, едва ли можно причислить к бесспорным слабостям конкретной лингвокультуры.
“Многие этнокультурные группы не обозначают словесно свои аффективные состояния. Это просто не является частью их эпистемологической ориентации” [20].
Ни в одном языке нет достаточного количества слов, чтобы обозначить абсолютно все ментальные явления. Язык нужен культуре (а не индивидууму), чтобы концептуализировать те явления в психике, в обозначении которых нуждается данное сообщество. Жизненный опыт любого индивидуума всегда многообразнее, чем набор слов, который предлагает любая национальная культура.
Спорный вопрос, чье сообщение информативнее – человека, который не прибегает к абстрактным понятиям, используя множество элементарных образов, или сообщение человека, чья культура речи позволяет ему возвыситься над мелкой конкретикой и говорить интеллектуально.
“Надо признать, что туземцы владеют искусством очень образно и очень живо описывать все, что они чувствуют. Они сравнивают. Они конкретизируют. /…/ Чернокожие из Центральной Африки умеют выражать то, что чувствуют, возможно, объективируя свои чувства и ощущения чуть больше, чем мы. Они конкретизируют в образной манере” [21].
Дифференциация эмоций при этом может быть слабее, чем в лингвокультурах европейских народов, если сравнивать арсенал психологических понятий. Комментируя это наблюдение, западные ученые иногда выбирают наиболее поверхностные объяснения, строящиеся на избитом противопоставлении Запад/индивидуализм vs Восток/коллективизм. Например:
“Что же такое есть в культуре развитых стран, что приводит к большей дифференциации эмоций? Можно сделать только очень осторожные предположения, но вполне возможно, что культуры, которые подчеркивают важность индивидуума по сравнению с группой, такой как семья или племя, больше способствуют развитию у человека чувства собственной идентичности. В отношениях с другими людьми, вероятно, будет меньше заданных предписаний и больше пространства для индивидуальности. В таких обстоятельствах естественно ожидать, что эмоциональные реакции будут развиваться в направлении большей дифференциации” [22].
Стоит добавить, что далеко не все неевропейские языки отличаются бедным набором слов для эмоций. Если сравнивать китайский язык с английским, то разница будет почти незаметной. В китайском 372 слова для эмоций [23], в английском – более 400 [24].
И даже если обобщающего слова для эмоции нет, в языке может быть немало слов для ситуативных эмоциональных реакций. В языке пинтуби (Австралия) есть слово для обозначения страха, резко возникающего из-за того что кто-то подходит к человеку со спины; слово для страха от ожидания того, что некто причинит вред в отместку за обиду; отдельное словосочетание для обозначения специфического чувства в эпигастральной области, возникающего перед каким-то плохим событием, и вызывающим страх [25].
Напрашивается довольно пессимистический вывод: во всем этом слишком много неустранимых сложностей, глобальная психиатрия с универсальной терминологий навсегда останется несбыточной мечтой.
Метаязык необходим для общения в научном сообществе и фактически его роль в наши дни исполняет английский язык, с помощью которого согласуются сообщения, полученные в разных этнокультурных пространствах.
Функцию метаязыка в транскультурной психологии можно сравнить с американским долларом. Если российский путешественник, отправляющийся в далекую и непопулярную у туристов страну, хочет рассчитать свои расходы, он интересуется курсом местной валюты. Он переводит цены в доллары, а потом, ориентируясь на курс доллар-рубль, вычисляет, сколько денег ему придется потратить и насколько дороже ему обойдется отдых на российских курортах. Для сравнения затрат цены переводятся “через” доллар. В современной науке о психике описания феноменологической реальности переводятся “через” английский язык.
Метаязык – перевалочный пункт для перегрузки словесных рапортов из поезда национальной психиатрии в поезд мировой науки. Дело не в том, что английский язык не справляется с этой задачей. Любой естественный язык не справится. Поэтому кандидатов на роль метаязыка медицинской психологии нужно искать среди искусственных языков, среди знаковых систем, специально созданных для того чтобы описывать объективную реальность.
В психодиагностике это язык нейробиологии, функционирующий вне зависимости от субъективности врача и пациента. Если Галилей прав и книга природы написана языком, состоящим из “кругов и квадратов”, и если сознание относится к явлениям природы, то почему бы исследователям, ради ясности и снятия межкультурных барьеров, не говорить друг с другом на этом языке?
Автор: Филиппов Д.С.
Источники: