 Masennus on suojautumiskeino, jonka alle ihminen hautautuu, kun on liikaa asioita, joita ei pysty käsittelemään.
Masennus on suojautumiskeino, jonka alle ihminen hautautuu, kun on liikaa asioita, joita ei pysty käsittelemään.
Tosi moni meistä tietää, mitä masennus on. Se koskettaa jollain tavalla lähes jokaista suomalaista. Itse sairastin melkein kolmekymmentä vuotta. Ajattelen niin, että masennus on häpeäsairaus. Arvottomuuden, kelpaamattomuuden ja vääränlaisuuden kokemus värittää mielenmaisemaa, ohjaa tulkintoja ja valintoja.
Masennus on myös näkymättömyyssairaus. Kun katse on toisten tarpeissa, oma kuppi tyhjenee. Näkymättömäksi muuttunut ihminen ei osaa tunnistaa tunteitaan eikä tarpeitaan eikä vaadikaan mitään itselleen. On tärkeämpää se, että muut voivat hyvin.
Masennus aiheuttaa paljon kärsimystä. Masennuksesta toipumista käsittelevässä kirjassani Toivon kirja masennuksesta olen nimennyt masennuksen myös kärsimyssairaudeksi. Masennus aiheuttaa valtavan määrän kärsimystä. Masentuneella on myös tiedostamatonta taipumusta ruokkia kärsimyskehoaan.
Masennus on turvapeitto, suojautumiskeino, jonka alle ihminen hautautuu, kun on liikaa asioita, joita mieli ei pysty käsittelemään. Turvapeiton alla on turvallisemman oloista, kauhean yksinäistä ja pimeää kyllä. Miten turvapeiton alta pääsee pois?
Tarvitaan halu toipua
Masennuksesta voi toipua, jos on halua toipua. Sama pätee moneen muuhunkin sairauteen. Kun on kova halua toipua, sitä alkaa käännellä kaikkia kiviä, jotta apu löytyy. Itselleni tuli masennuksen kanssa kärsimyskuppi täyteen – ennen sitä en olisi ollut valmis toipumaan.
Ymmärsin, että olin kerännyt kärsimystä, tarvitsin sitä rangaistakseni itseäni vääränlaisuudestani. Itsevihalla on voima tuhota ihminen sisältäpäin. Siksi vihaan on masennuksen yhteydessä kiinnitettävä erityistä huomiota.
Toipumisen matka ei ole helppo, mutta sille kannattaa astua. Toipumisresepti on yhtä aikaa hyvin yksinkertainen, mutta äärimmäisen vaikea. On asetuttava itsen äärelle kuuntelemaan omia tunteita ja niiden sanomaa, on lähdettävä tunnistamaan omia tarpeita ja alettava elää niiden viitoittamaa polkua, on opeteltava hyväksymään ja rakastamaan kaikkea, mitä itsessä on. Pelottavinta on ehkä näkyväksi tuleminen.
Masennuksesta vapautuminen on sinnikästä raivaamistyötä. Ensin pitää heittää paljon vanhoja roskia pihalle, jotta tyhjään tilaan saa istutettua uutta kasvua: rakkautta, iloa ja luottamusta – masennuksen vastavoimia.
Kurkkaa Miian uutuuskirja Häpeästä valoon:
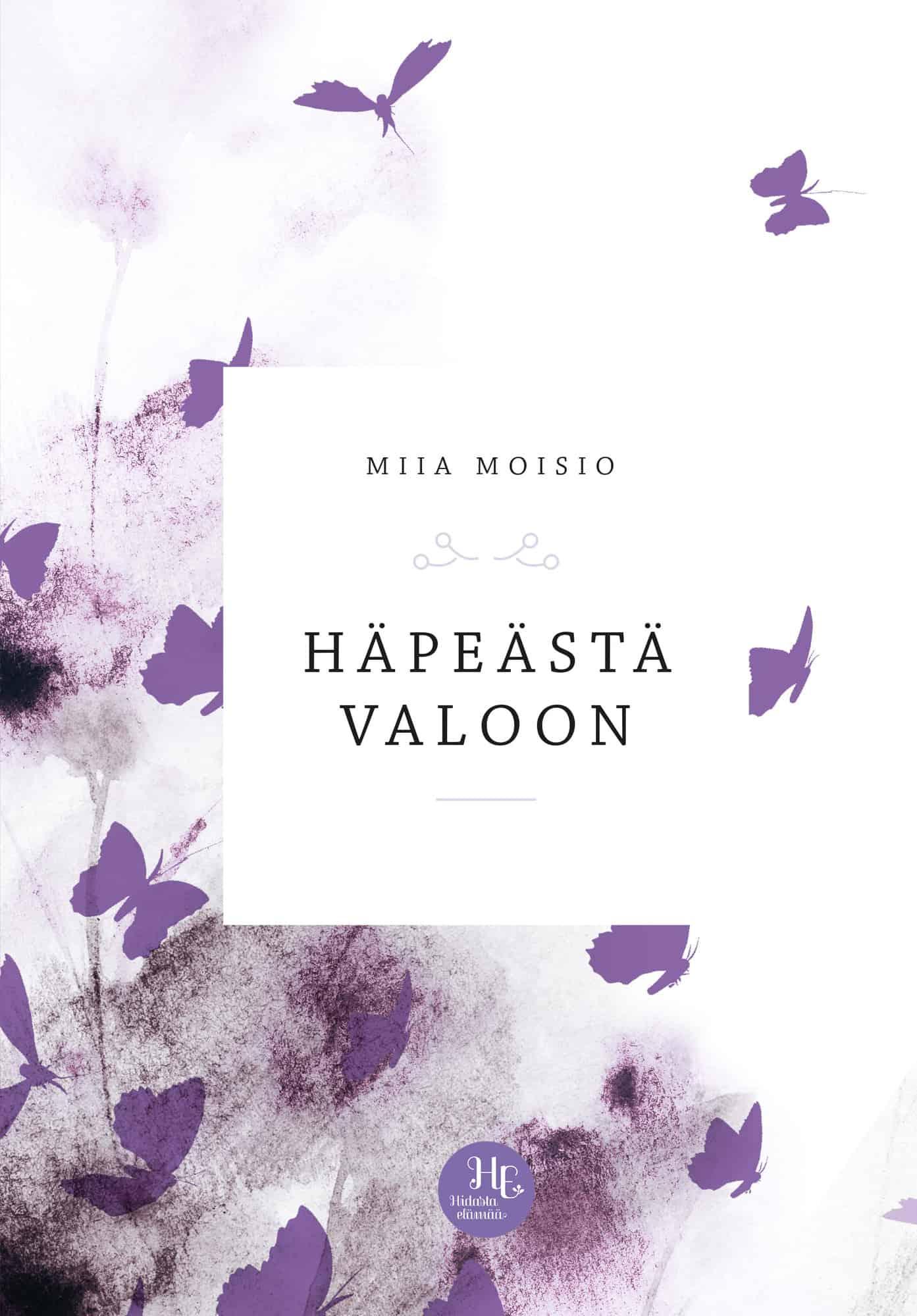

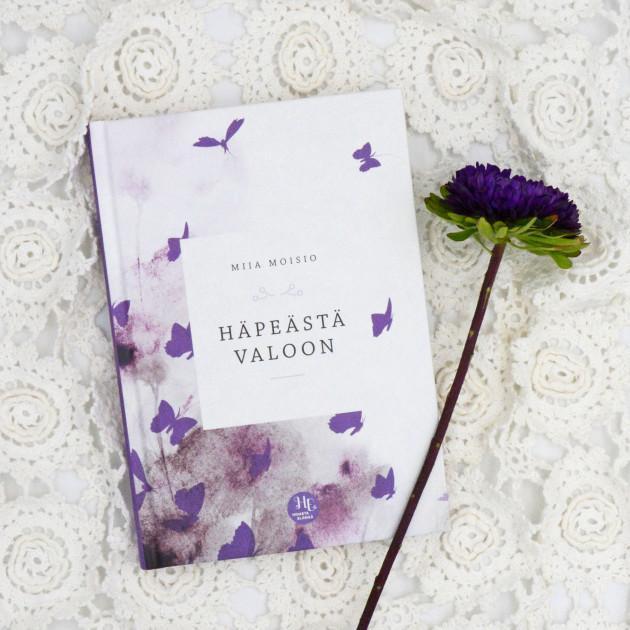 Olen nimittänyt masennusta monenlaiseksi sairaudeksi: puhun masennuksesta näkymättömyys- ja tunnelukkosairautena, itsestä etääntymisen sairautena ja rajattomuussairautena. Lisäksi masennus on kärsimys-, voimattomuus- ja läsnäolottomuussairaus sekä syyllisyys- ja itsevihasairaus.
Olen nimittänyt masennusta monenlaiseksi sairaudeksi: puhun masennuksesta näkymättömyys- ja tunnelukkosairautena, itsestä etääntymisen sairautena ja rajattomuussairautena. Lisäksi masennus on kärsimys-, voimattomuus- ja läsnäolottomuussairaus sekä syyllisyys- ja itsevihasairaus.