 Многие думают, что ПТСР (посттравматическому стрессовому расстройству) подвержены только люди, побывавшие в горячих точках, в плену, пережившие катастрофу.
Многие думают, что ПТСР (посттравматическому стрессовому расстройству) подвержены только люди, побывавшие в горячих точках, в плену, пережившие катастрофу.
В действительности, ПТСР может вызвать любая стрессовая ситуация, которая кажется человеку экстремальной, на полноценную переработку которой у него не оказывается ресурсов.
Например, когда ребёнок видит, как отец жестоко избивает мать — для него это экстремально, т.к. выходит за пределы «нормального человеческого опыта», когда появляется угроза его безопасности или безопасности самого близкого лица, осуществляющего за ним опеку — матери. Когда женщина длительное время живёт с агрессивным параноиком, испытывая постоянный страх за свою жизнь, ежедневно подвергаясь эмоциональному и физическому насилию. Экстремальной можно назвать и жизнь с человеком, который регулярно вас обесценивает, заставляет сомневаться в вашей вменяемости, изменяет, чьё поведение является непредсказуемым. В таких условиях формируется психическая травма как последствие травматического стресса.
По каким признакам можно распознать ПТСР?
Симптоматика данного расстройства проявляет себя в интрузии, избегании и гиперактивности.
1. Интрузия — это внедрение в сознание в настоящем, даже если оно ничем не угрожает по факту, «отголосков» пережитых травматических событий: повторяющиеся навязчивые воспоминания, ночные кошмары, иллюзии, галлюцинации.
Какие-либо звук, действие, слово, запах, ситуация, вызвавшие ассоциацию с травмой, могут привести к вспышке агресси, тревоги, страха и даже к зрительным, слуховым галлюцинациям.
Так, одна женщина рассказала эпизод, как после ссоры с мужем ночью ей приснился кошмарный сон, в котором её преследует мужчина с ножом. Сон был отголоском прошлого, когда она подвергалась систематическим угрозам и избиениям со стороны отчима. Ночной кошмар спровоцировал приступ паники и паранойяльное состояние — страх выйти из дома.
Триггером описанного симптомокомплекса послужила агрессия со стороны мужа, возобновившийся страх за свою жизнь, утрата чувства безопасности.
2. Избегание — проявляется в попытках избежать стимулов, связанных с травмой: разговоров, мест, людей, которые могут вызвать воспоминания о травме; в полной или частичной амнезии важных аспектов травмы; в выраженном снижении интереса к тому, что раньше приносило удовольствие; в отчужденности; в избегании строить планы на длительную перспективу; в угашении некоторых чувств.
3. Гиперактивность — проявляется в трудностях засыпания и нарушении продолжительности сна, в раздражительности, в трудности концентрации внимания, сверхнастороженности, в усиленной реакции на испуг.
Продолжительность расстройства — более 1 месяца.
Типы расстройства:
острое — симптомы сохраняются менее 3-х месяцев;
хроническое — симптомы сохраняются 3 месяца и более;
отсроченное — симптомы могут возникать через 6 и более месяцев после окончания воздействия стрессора.
Что делать, если после воздействия сильного стресса вы обнаружили у себя вышеперечисленные симптомы?
При наличии сложного симптомокомплекса: устойчивых нарушениях сна, адаптации, нарастающей депрессии может потребоваться медикаментозная поддержка.
Человеку, обратившемуся за помощью, необходимо обеспечить принятие, поддержку, проинформировать о течении расстройства, реакциях.
В терапии ПТСР хорошо зарекомендовал себя когнитивно-поведенческий подход. Коротко приведу основные его этапы.
1. Диагностический (производится исследование анамнеза, оценка тяжести травмы, выявляются наиболее тяжёлые моменты в происшедшем, что было наиболее тяжёлым после травмы, способы совладания с травмой и т.д.) .
2. Информирование о ходе терапии (клиенту объясняют, что психотерапевтический процесс предполагает постепенное погружение в болезненные образы и мысли — это помогает ему осознать, что их можно вынести, что сами по себе они не опасны и не приводят к безумию; подобное исследование своих мыслей, чувств может привести к более продуктивным стратегиям совладания).
3. Восстановление привычных занятий (клиенты с ПТСР часто бросают занятия, ранее приносившие удовольствие, делавшие жизнь осмысленной — это является ошибкой, отсрочивающей выздоровление).
4. Когнитивное переструктурирование. Задача клиента — по мере сил и желания составить полное и детальное описание травматического опыта (в присутствии психолога или с помощью самостоятельного составления письменного рассказа). Этот приём способствует интеграции разрозненных воспоминаний о травме, выявлению дезадаптивных убеждений, с последующей переоценкой.
5. Пролонгированное погружение в воображении. При травме человек ошибочно старается избежать пугающих и тревожащих мыслей. Однако, тревога снижается раз за разом именно при систематическом погружении в травматическое воспоминание. Один из вариантов погружения в воображении — «переписывание сценария», в котором клиент из беспомощного может перевоплотиться в сильного.
6. Погружение в реальной ситуации. Клиента поощряют посещать места и выполнять те виды деятельности, которые вызывают страх и избегание. Это позволяет опытным путём убедиться, что они не несут опасности (например, в ситуации, когда человек боится выйти из дома, сесть за руль и т.п.).
7. Необходимо выявить триггеры повторяющихся воспоминаний и эмоций с целью их дальнейшей проработки.
8. Необходимо обучить клиента конструктивным способам совладания с тревогой.
Может быть полезно придать травме смысл.
* Иллюстрации: Люси Билодо.
Дорогие читатели, благодарю Вас за внимание к моим статьям!
Автор: Буркова Елена Викторовна
Частная психотерапевтическая практика
 Тревожные, повторяющиеся мысли мучают многих людей. Они могут испортить любой день, но особенно тяжело выдерживать их атаку по ночам. Как с ними бороться? Свой взгляд на проблему и конкретные решения предлагает врач-терапевт Сьюзан Хаас.
Тревожные, повторяющиеся мысли мучают многих людей. Они могут испортить любой день, но особенно тяжело выдерживать их атаку по ночам. Как с ними бороться? Свой взгляд на проблему и конкретные решения предлагает врач-терапевт Сьюзан Хаас.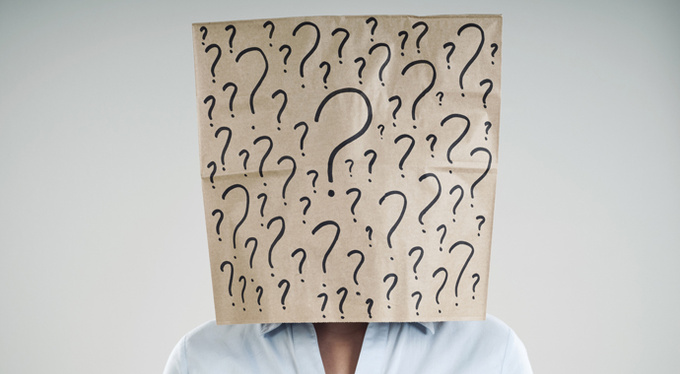
 Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – это хроническое заболевание, при котором у пациентов наблюдаются сильные, навязчивые, не исчезающие воспоминания о перенесенном травматическом событии. Такого рода травматические события происходят в жизни почти каждого человека, причем около 10-20% людей демонстрируют явные симптомы ПТСР. Используемая в настоящее время когнитивно-поведенческая терапия не всегда эффективна, что требует разработки дополнительные препаратов, которые могли бы усиливать её эффект. Это, в свою очередь, должно обеспечиваться пониманием процессов, участвующих в реакции на стресс и сохраняющих эти реакции в течении продолжительного времени.
Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – это хроническое заболевание, при котором у пациентов наблюдаются сильные, навязчивые, не исчезающие воспоминания о перенесенном травматическом событии. Такого рода травматические события происходят в жизни почти каждого человека, причем около 10-20% людей демонстрируют явные симптомы ПТСР. Используемая в настоящее время когнитивно-поведенческая терапия не всегда эффективна, что требует разработки дополнительные препаратов, которые могли бы усиливать её эффект. Это, в свою очередь, должно обеспечиваться пониманием процессов, участвующих в реакции на стресс и сохраняющих эти реакции в течении продолжительного времени.