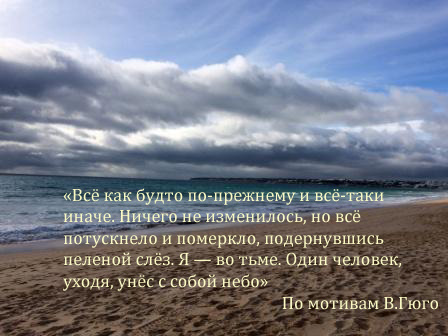 Переживание горя
Переживание горя
Горе является нормальной реакцией на утрату. Горе имеет психологические (психические), эмоциональные и физические проявления.
После смерти любимого человека вы можете испытывать шок или не верить в произошедшее. Некоторые люди чувствуют оцепенение или им кажется, что они находятся во сне. Возможны ситуации, когда вами овладеет чувство грусти, опустошенности или одиночества. Вы даже можете злиться, испытывать чувство вины или почувствовать облегчение. Нормально испытывать несколько из названных чувств одновременно.
Горе также может сопровождаться физическими проявлениями, в том числе изменением аппетита, веса или привычного режима сна. У вас может болеть голова или живот. Кроме того, вам может быть тяжело думать о возвращении к повседневным делам или к работе. В некоторые дни у вас может быть больше сил, чем в другие. Помните, что нет правильного или неправильного способа пережить горе. Каждый человек проходит через это по-своему.
Самыми болезненными могут быть первые месяцы после утраты, но со временем чувства зачастую меняются. Некоторые люди скажут вам, что горе от утраты любимого человека не покидало их в течение года. На самом деле нет никаких четких временных рамок для этого чувства. Из-за особенностей ваших отношений с близким человеком вы можете переживать горе не так, как другие люди.
Как справиться со смертью близкого человека
Мы назовем несколько аспектов, о которых необходимо помнить по мере течения времени.
Почитание памяти любимого человека
В различных культурах и вероисповеданиях есть ритуалы почитания памяти человека после его смерти. Иногда семьи создают свои собственные ритуалы, такие как зажигание свечей или особая семейная трапеза. Возможно, вы захотите почтить память близкого человека особенным, важным именно для вас способом. Также возможно, что вы захотите почтить память близкого человека более открыто. Это может быть публикация в Интернете в память об ушедшем, мемориальная доска или посаженное в саду дерево. Все это будет способствовать формированию чувства общности и родства. Возможно, вы захотите обсудить с духовным наставником, друзьями и родственниками то, как именно вы хотите почтить память близкого человека. Что бы вы ни выбрали, помните, что нет правильного или неправильного способа почтить память любимого человека.
Как распорядиться личными вещами
Одежда и личные вещи вашего близкого человека могут иметь для вас особое значение. Некоторые люди чувствуют острую необходимость освободить шкафы и полки от вещей сразу же после смерти близкого человека. Другие сохраняют все так, как было до утраты. Возможно, вы найдете утешение пользуясь одеждой или книгами любимого человека. Вы также можете отдать эти вещи родственникам и друзьям. Эти решения можете принять только вы. Не спешите что-то решать и сделайте так, как будет наиболее приемлемо для вас и для вашей семьи.
Общение с семьей и друзьями
В это время вас могут поддержать родственники и друзья. Однако, у них будут возникать собственные чувства и реакции, связанные со смертью близкого человека и вашим переживанием горя. Некоторые люди не знают, что сказать скорбящему. Они могут сказать что-то бестактное или грубое, когда пытаются посочувствовать. Ваши потребности могут не всегда быть ясными для вашего партнера, ваших родственников или друзей. По этой причине может быть полезно поговорить о ваших потребностях, даже когда это сложно. Если вы не готовы к разговору, возможно, вам будет легче написать письмо по электронной почте или отправить текстовое сообщение. Вы также можете попросить друга или родственника помочь в общении с другими людьми в этот период.
Принятие решений
В настоящий момент вам может быть сложно принимать решения. По этой причине, после утраты близкого человека важные вопросы, возможно, лучше отложить на несколько месяцев или на год. К таким вопросам относится переезд, переход на новую работу или пересмотр финансовых дел. Возможно, вам будет полезно попросить совета у друзей и родственников, когда настанет время принимать такие решения.
Праздники и годовщины
Наступят различные значимые даты, такие как юбилеи, дни рождения и праздники, которые напомнят вам об утрате. Вам может быть тяжело впервые отмечать эти дни без любимого человека. Немного облегчить их наступление поможет заблаговременное планирование.
Возможно вы захотите на этот раз отметить эти дни по-другому. Одним из вариантов может стать пересмотр старых семейных традиций или установление новых. Вы можете найти утешение в общении с друзьями и родственниками или предпочесть сделать что-то в одиночку. Каким бы ни было ваше решение, помните, что нет правильного или неправильного способа провести эти дни. Постарайтесь делать то, что будет для вас наиболее приемлемым.
Как помочь ребенку пережить утрату
Смерть близкого человека сказывается на детях любого возраста. Если у вас есть дети, переживающие утрату, вы, возможно, захотите оградить их от той печали, которую испытываете вы. Тем не менее важно осознавать произошедшее и признать, что все дети будут переживать утрату по-своему.
То, как ваши дети переживают горе, зависит от их возраста, от представления о смерти и от поведения окружающих, служащих детям примером. Вместе с тем важно честно обсудить с ними произошедшее, используя подходящие по их возрасту слова. Такие фразы как «больше не с нами» или «скончался» могут быть непонятны для маленьких детей. Они могут переживать горе разными способами и в разные моменты времени. Будьте честны с вашими детьми и ответьте на их вопросы. Это поможет им почувствовать вашу любовь и защиту, а также участниками вашей совместной работы над возвращением к нормальной жизни.
Если вы испытываете затруднения в общении с детьми, попросите о помощи члена семьи, друга или профессионального социального консультанта. Социальный работник центра Memorial Sloan Kettering (MSK) может предоставить вам дополнительную информацию об услугах поддержки для вас и вашей семьи.
Уход за собой
Горе может вызвать психический, физический и эмоциональный стресс. Важно уделять внимание своим потребностям. В этот период уход за собой может быть для вас не главным. Вы можете быть сосредоточены на заботе о других членах семьи. Вы даже можете испытывать чувство вины по поводу того, что уделяете внимание себе. Если вы разрешите себе ухаживать за собой и выделите для этого время, это поможет вам справиться с утратой.
Вот некоторые примеры того, как вы можете заботиться о себе, переживая смерть любимого человека.
Находите время для себя
Каждый из нас заботится о себе по-своему. Некоторым людям помогает физическая активность, например прогулки или выполнение упражнений. Другие предпочитают общение с друзьями и родственниками или совместные трапезы и беседы. Вы можете освоить новые навыки, например приготовление пищи или садоводство. Уделяя время поиску новых способов утешения и получения удовольствия, вы можете быстрее оправиться от горя.
Создайте систему поддержки
Переживать горе в одиночку может быть очень сложным испытанием. Важно создать систему поддержки для вас и вашей семьи. Это может включать:
- проведение времени с друзьями и семьей;
- участие в группе поддержки;
- обращение за консультацией к специалистам;
- волонтерская работа или участие в общественных мероприятиях.
Важно поддерживать открытое общение с теми, кто поддерживает вас. Разговор с ними о ваших переживаниях поможет вам оставаться на связи, пока вы переживаете горе.
Признавайте необходимость профессиональной помощи
Некоторые люди могут чувствовать, что горе поглотило их, если их чувства со временем не изменяются или им становится все тяжелее. Если вы испытываете подобные чувства на протяжении 6 месяцев с момента смерти близкого человека или дольше, возможно, вам следует рассмотреть возможность получения дополнительной поддержки.
Вот некоторые признаки того, что вы нуждаетесь в профессиональной помощи:
- вы испытываете глубокую печаль и чувствуете, что жизнь утратила смысл;
- вы потеряли интерес к тому, что вам нравилось, или перестали получать от этого удовольствие;
- вы избегаете общественные мероприятия;
- вам сложно принимать решения или решать повседневные задачи;
- вы не в состоянии ухаживать за собой или своими детьми, или же не можете делать ни то, ни другое;
- у вас проблемы со сном или приемом пищи, или же и с тем, и с другим;
- вы испытываете сильное чувство вины, сожаления или гнев;
- у вас появились вредные привычки, например злоупотребление алкоголем или наркотиками;
- у вас появляются мысли о самоубийстве или о причинении себе вреда.
Вам могут помочь различные консультанты центра MSK. К ним относятся социальные работники, психологи, психиатры, духовные наставники, консультанты по психическому здоровью, а также арт-терапевты и музыкальные терапевты. Консультант может помочь вам справиться с изменением восприятия вашей жизни, с уходом за собой и своими родными и с выполнением повседневных дел.
Мы не можем предотвратить смерть, но благодаря времени, терпению и поддержке мы можем научиться справляться с потерей. Что наиболее важно, мы можем найти способы снова обрести смысл жизни.
Источники информации
Центр MSK предлагает ряд ресурсов для переживающих горе семей и их друзей. Более подробная информация о перечисленных ниже ресурсах приводится на странице www.mskcc.org/cancer-care/counseling-support/support-grieving-family-friends.
Чтобы узнать об услугах, предоставляемых в центре MSK лицам, понесшим тяжелую утрату, обратитесь к вашему медицинскому сотруднику или в программу поддержки понесших тяжелую утрату лиц, проводимую Отделом социальной работы (Department of Social Work’s Bereavement Program). Позвоните по телефону 646-888-4889 или отправьте сообщение на адрес электронной почты bereavement@mskcc.org.
Программа поддержки понесших тяжелую утрату лиц, проводимая Отделом социальной работы
646-888-4889
bereavement@mskcc.org
Программа Отдела социальной работы, направленная на поддержку лиц, которые понесли тяжелую утрату, предусматривает бесплатные телефонные консультации, работу групп поддержки и обучающие лекции, а также рекомендует местные ресурсы социальной помощи населению. Социальные работники для онкологических (раковых) пациентов оказывают квалифицированную помощь в решении психологических, социальных и духовных проблем, которые возникают у тех, кто переживает утрату. Они также могут помочь решить практические проблемы, возникающие у переживающих горе лиц, их родственников и друзей.
Центр по предоставлению консультаций центра MSK
646-888-0100
Некоторые семьи, пережившие горе, находят, что им помогли консультации специалистов. Наши психиатры и психологи работают в клинике для понесших тяжелую утрату, где они консультируют и поддерживают отдельных лиц, пары и семьи. Они также могут назначать лекарства, которые помогут вам выйти из подавленного состояния.
Духовная поддержка
212-639-5982
Наши капелланы готовы выслушать и поддержать членов семьи, помолиться и обратиться к местному духовенству или религиозным группам. Они также могут просто утешить и протянуть руку духовной помощи. За духовной поддержкой может обратиться любой человек вне зависимости от исповедуемой религии.
Служба интегративной медицины
646-449-1010
Наша служба интегративной медицины предлагает пациентам различные виды лечения в дополнение к традиционному медицинскому уходу и услугам по эмоциональной поддержке. Наши услуги включают музыкальную терапию, терапию души/тела, танцевальную, двигательную и тактильную терапию, йогу, физические упражнения и занятия по медитации. Эти услуги могут помочь переживающим горе людям справиться с возможным физическим и эмоциональным стрессом.
https://www.mskcc.org/
https://www.mskcc.org/
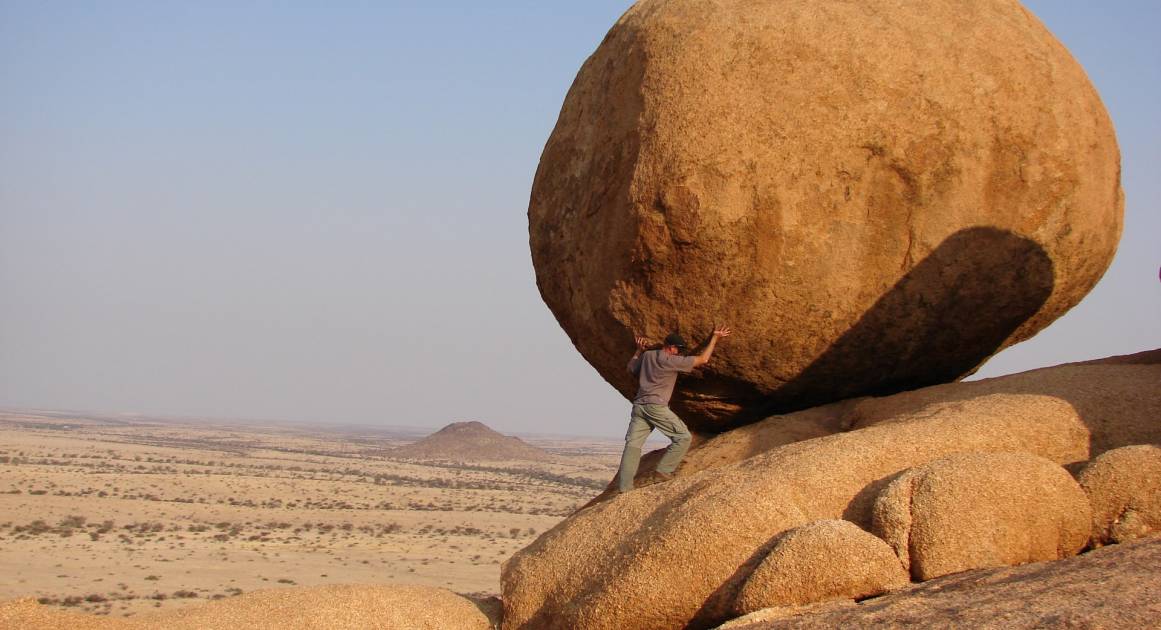 Иммунитет есть не только у тела. Психика тоже обладает механизмами защиты от внешних угроз. Но ментальный иммунитет не делает нас неуязвимыми. Он лишь дает психике способность амортизировать удары для предотвращения опасных травм. Сами по себе болезненные столкновения с реальностью так же неизбежны, как инфекции и воспаления. Чаще всего уклониться от них нельзя. Зато можно помочь психике пройти это испытание с наименьшими потерями, если следовать нескольким простым правилам.
Иммунитет есть не только у тела. Психика тоже обладает механизмами защиты от внешних угроз. Но ментальный иммунитет не делает нас неуязвимыми. Он лишь дает психике способность амортизировать удары для предотвращения опасных травм. Сами по себе болезненные столкновения с реальностью так же неизбежны, как инфекции и воспаления. Чаще всего уклониться от них нельзя. Зато можно помочь психике пройти это испытание с наименьшими потерями, если следовать нескольким простым правилам. С детства я чувствовала себя немного не такой, как все: была умнее, перспективнее, «хорошей девочкой», потом «хорошим, порядочным человеком», верным другом. Подруг было мало — я всегда думала, что должна быть одна подруга, с которой можно делиться всем, получать и давать поддержку и всю жизнь быть вместе. А приятельские отношения поддерживать не умела и не умею.
С детства я чувствовала себя немного не такой, как все: была умнее, перспективнее, «хорошей девочкой», потом «хорошим, порядочным человеком», верным другом. Подруг было мало — я всегда думала, что должна быть одна подруга, с которой можно делиться всем, получать и давать поддержку и всю жизнь быть вместе. А приятельские отношения поддерживать не умела и не умею.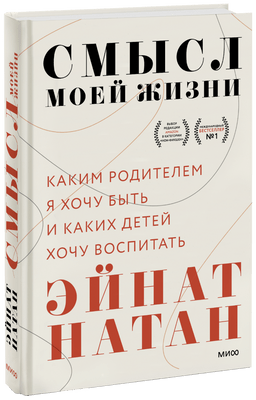
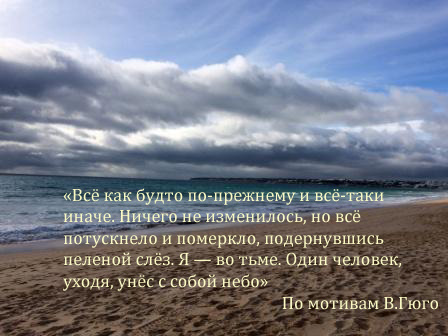 Переживание горя
Переживание горя