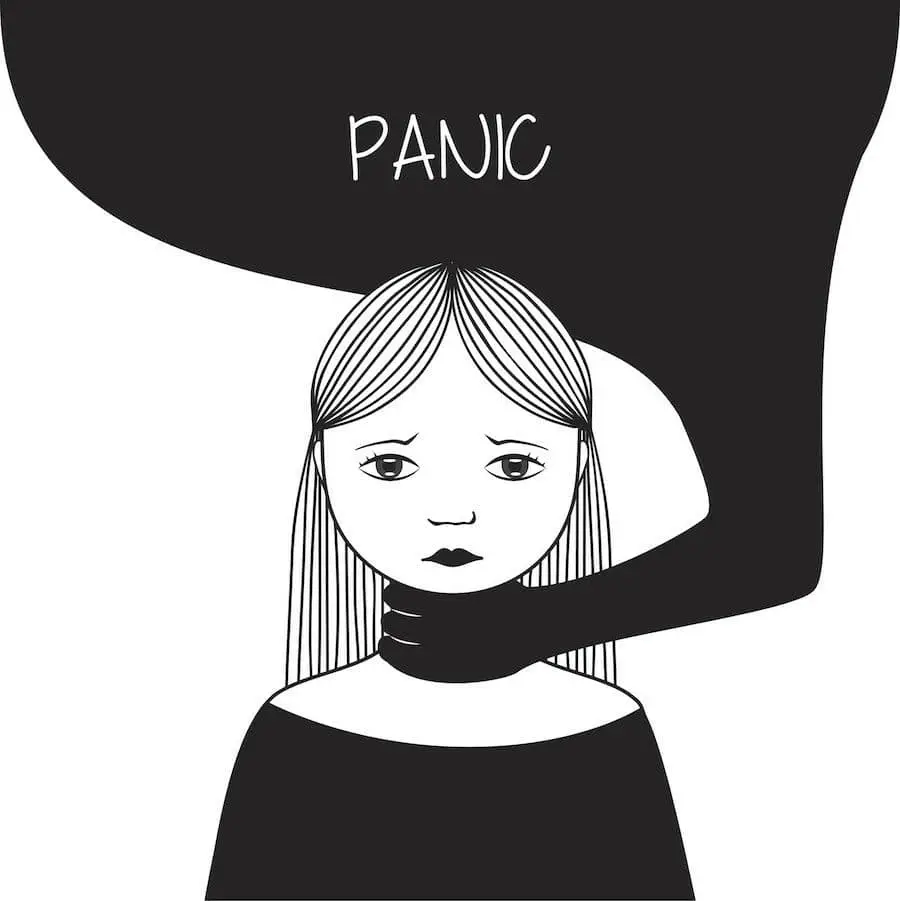 «Я стою в метро и задыхаюсь. Это произошло со мной впервые. Было непонятно и страшно».
«Я стою в метро и задыхаюсь. Это произошло со мной впервые. Было непонятно и страшно».
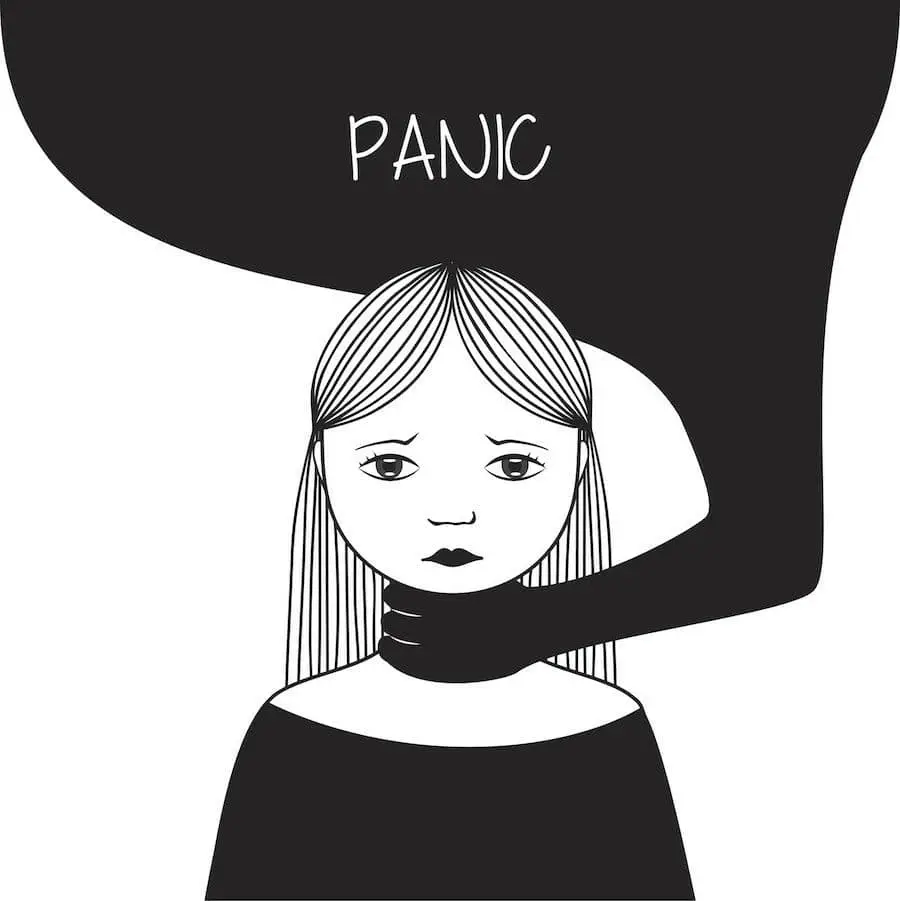 «Я стою в метро и задыхаюсь. Это произошло со мной впервые. Было непонятно и страшно».
«Я стою в метро и задыхаюсь. Это произошло со мной впервые. Было непонятно и страшно».
 Автор: Аглая Датешидзе – врач-психотерапевт, танцевально-двигательный терапевт.
Автор: Аглая Датешидзе – врач-психотерапевт, танцевально-двигательный терапевт.
Почти три года назад я родила дочь и сейчас много времени провожу с ней. И так водится у психотерапевтов, что в работе притягивается то, что происходит в жизни. Так что за последний год у меня было около 10 клиенток-женщин с детьми до года. И все они жаловались на столь похожие проблемы, что я решила обобщить этот опыт и написать статью.
У женщин, которые сидят с детьми до года, особенно с первыми детьми, даже очень любимыми и желанными, иногда возникают навязчивые страхи и пугающие желания, которые самим женщинам кажутся беспочвенными, не приемлемыми и граничащими с безумием. И поскольку такое с ними происходит в первый раз, они очень пугаются и стыдятся этого.
Вот на что они жалуются:
Постоянный страх за ребенка. Страх что с ним что-то случится, что он перестанет дышать во сне, утонет в ванной, задохнется в подушках.
Страх случайно причинить ребенку увечье: уронить, утопить, порезать случайно ножницами.
Страх сделать с ребенком что-то агрессивное намеренно: порезать ножом или ножницами, выронить из окна с высокого этажа.
Желание уйти ото всех, спрятаться, забиться в угол.
«Нервные срывы», во время которых они кричат на мужа, старшего ребенка и других родственников.
Повышенную обидчивость и ранимость.
Ухудшение отношений с мужем, невозможность наладить с ним контакт и диалог. Отсутствие помощи от мужа в уходе за ребенком.
Невозможность вообще справиться с ситуацией. Неуверенность в своей материнской позиции.
Мучительное чувство вины перед ребенком и мужем за свои «плохие» чувства и фантазии, стыд перед родственниками.
Вот типичное письмо на эту тему:
«Здравствуйте! У меня такая проблема… Год назад я родила доченьку. Ребенок запланированный и желанный, и мы с мужем очень ее любим. Я стараюсь дать ей все самое лучшее: лучшие игрушки, детскую комнату, все время с ней занимаюсь и развиваю ее. И муж старается мне помогать, но он много работает, домой приходит поздно и уходит рано, поэтому побыть с ребенком у него получается только в выходные. И мы все время с ребенком вдвоем. Проблема в том, что иногда у меня бывают «нервные срывы», во время которых я кричу на мужа и на ребенка и ничего не могу с собой поделать. А еще в последнее время мне стало страшно что-то сделать с ребенком, поэтому я убираю подальше все острые предметы. Я не знаю что мне делать! Мне стыдно в этом признаться мужу и свекрови, потому что они скажут, что в прежние времена женщины с тремя детьми справлялись, а я с одним справиться не могу. Доктор, что со мной? Я схожу с ума? Это послеродовая депрессия? Или я просто плохая мать? Что мне делать? Может, что-нибудь попить, чтобы это прошло?»
Эти странные и неожиданные психологические проблемы так пугают женщин, что они готовы признать себя и сумасшедшими, и плохими матерями. Они думают, что такие чувства посещают только их, стыдятся признаться в этом окружающим и еще больше замыкаются в себе.
В чем причины такого состояния и почему такое происходит с женщинами? У меня есть мысли на эту тему.
Прежде всего пару слов о послеродовой депрессии. Есть состояние, которое называется «послеродовая грусть». Оно проявляется в повышенной плаксивости и чувствительности женщин в первые недели после родов. Они плачут от того, что «пальчики такие маленькие» или «песня такая грустная», или они «так всех любят». Это состояние обусловлено гормональным взрывом в организме, и оно проходит через несколько недель после родов.
Выпустить избыток гормонов помогают физические нагрузки, во время которых тело потеет (например, беговая дорожка или послеродовое пеленание).
С остальными психологическими проблемами все немного сложнее.
К беременным женщинам у всех особое отношение. Проявляется много заботы и внимания. А после родов все внимание переключается на ребенка. А женщина из всеми любимой и расслабленной превращается в кого-то, кто должен заботиться о ребенке денно и нощно, не спать, не есть и даже не успевать сходить в туалет и мыться. И даже если такое предусмотрено природой, это все равно стресс, и не надо сбрасывать его со счетов. Не зря многие женщины тоскуют по беременному состоянию и хотят вернуться в него опять.
В случае с первым ребенком женщине нужно сменить детскую позицию на родительскую. Но одно дело фантазировать во время беременности о том, как будешь заботиться о лучшем малыше на свете, самом спокойном и милом, а другое дело укачивать ночами этого орущего монстра. Не все дети соответствуют ожиданиям, а несоответствие жизни ожиданиям – это тоже большой стресс, от которого инстинктивно хочется избавиться.
И еще сложность принятия родительской позиции заключается в том, что много лет женщина привыкла быть дочерью, а потом она резко становится матерью. И требуются месяцы адаптации к этому.
Ребенок, даже самый любимый и желанный, сильно нарушает физические и психологические границы матери, потому что буквально вторгается в ее тело во время беременности, а потом долго висит на груди. И еще требует не только постоянного присутствия рядом, но и полного внимания 24 часа в сутки. И все это приходит к женщине после родов в одночасье. Естественная реакция человека на нарушение границ – это злость (чувство) и агрессия (действие). Этого требует инстинкт самосохранения. Но как проявить злость или агрессию по поводу к грудному ребенку? В этот момент материнский инстинкт пересиливает инстинкт самосохранения, и женщина все равно заботится о ребенке. Но куда же девать инстинкт самосохранения и рождающуюся от него злость? Она-то как раз и девается во все те жалобы, с которыми женщины обращаются к психотерапевту.
Возникает страх за ребенка, а страх – это вывернутое наизнанку желание. У матерей биологически есть злость и агрессия в отношение своих детей, как и в отношении других существ, которые нарушают границы. И если мать боится, что с ребенком что-то случится, то какой-то частью души она этого хочет, и это, как ни странно, нормальная биологическая реакция. И в этом, как говорится, нет «ничего личного», а просто здоровое желание восстановить свои границы и позаботиться о себе.
Навязчивый страх намеренно причинить ребенку вред (повредить острым предметом, утопить, выронить из окна) – это состояние из той же оперы. Материнский инстинкт и давление общественного мнения не дают женщине допустить злость до сознания, но любые эмоции, которые не выражены прямо, находят другой путь наружу. Это навязчивые страхи, боли, упадок сил, чувство вины. Материнской инстинкт блокирует агрессию по отношение к младенцу, но он не распространяется на мужа и в меньшей степени распространяется на старших детей. Поэтому часто женщины выражают агрессию в ссорах с мужем и старшими детьми, но когда выпускают пар, то чувствуют вину и стыд, потому что ни муж, ни старшие дети ни в чем не виноваты.
Чувство вины – это одно из социальных чувств, которое призвано контролировать отношения в обществе. Вина – это та же злость, однако направленная на себя. Человек сам винит себя, корит, ругает, то есть проявляет агрессию к себе и внутри себя. Но агрессия призвана защищать наши границы от внешних воздействий. Поэтому когда вы чувствуете себя виноватым перед кем-то, на кого-то, нужно спросить себя «за что же я злюсь на этого человека?». Так что чувство вины перед ребенком, мужем или родственниками – это просто злость на них, направленная внутрь себя.
Конечно, не все женщины страдают от таких проблем. Обычно навязчивым страхам подвержены личности с установками на то, чтобы быть «идеальными» во всем, что они делают. В том числе идеальными матерями, которые никогда не злятся, никогда не устают и вообще воплощают вселенскую любовь и гармонию. И если у женщины есть идея дать ребенку все самое лучшее, ценой собственной свободы и здоровья, то это прямой путь к неврозу. Многие женщины не могут расслабиться и пытаются все контролировать, мыть пол до стерильного состояния, кипятить пустышку после каждого выпадения изо рта, высаживать, даже если это не получается. Стремление каждую секунду дать ребенку самое лучшее вместо того, чтобы дать просто хорошее, сильно истощает организм. И тогда инстинкт самосохранения опять же начинает играть с психикой злую шутку, превращаясь в навязчивые желания.
Женщины, постоянно заботящиеся о других, но не способные заботиться о себе, чаще страдают неврозами.
Также неврозами часто страдают женщины, которые все стараются делать по правилам, по книжкам и по социальным нормам и перестают слушать свои инстинкты. Например, кормят детей по часам, когда на самом деле хотели бы по требованию. Или спят отдельно от ребенка потому, что так написано в книжках.
Игнорирование внутреннего голоса приводит к тому, что проблем в заботе о ребенке становится больше. Отсюда утомление, раздражительность, а потом чувство вины и стыда за это.
Еще одна причина неврозов заключается в том, что в современном обществе, которое пытается всеми силами «заботиться» о детях, лишая их контакта с матерью (коляски, кроватки) и контакта с другими детьми и людьми (длинный декретный отпуск, режим, полная стерильность), так вот в современном обществе мамы с детьми изолированы от других людей. Есть правила, режим, стерильность, разные распорядки дня у тех, кто работает и тех, кто в декретном отпуске. И получается, что женщины, которые могли вести достаточно активную жизнь во время беременности, после родов оказываются резко лишены контакта всего привычного. Это «заточение» не все могут вынести.
Когда женщина постоянно варится в своем соку, она неизменно начинает искать проблемы в отношениях с мужем. И находит.
Мужчины так устроены, что они любят сразу решать проблемы. И если они не знают как быть с ребенком, то основной способ решения этой проблемы – оставить ребенка с матерью, которая «сделает с ребенком что-нибудь, ведь она же мама», а самому пойти работать и зарабатывать деньги, чтобы их обеспечить. Безусловно, не все мужчины таковы, но я описала достаточно частую мужскую позицию. Отсюда сложности в отношениях, взаимные обвинения (она его обвиняет в невнимательности, он ее обвиняет в истериках и том, что она не дает ему спокойно отдохнуть дома).
На страхи и навязчивые мысли, как я уже писала, накладываются стыд, вина и ощущение себя как «плохой матери». Попытка исправить ситуацию, еще больше жертвуя собой, и… еще больше симптомов и полная социальная дезадаптация.
Но, не все матери чувствуют себя плохо. Многие выбирают меньше страдать и больше радоваться в первый год жизни ребенка. Как же они это делают? Я готова поделиться своим незатейливым опытом и опытом наблюдения за другими женщинами.
Итак, что можно делать, чтобы не усложнять себе жизнь:
1. Придерживаться принципов естественного родительства настолько, насколько это вам удобно. Спать с ребенком, если это улучшает качество вашего сна, кормить по требованию, так, как это заложено природой и экономит всем нервы, освоить слинг, так как это дает комфорт ребенку и мобильность маме.
2. Умерить свой фанатизм. Если не получается с высаживанием, то не высаживать. Если ребенок не хочет нырять, то не заставлять его это делать.
3. Научиться просить помощи у близких и научиться принимать ее. Привлекать друзей и родственников для того, чтобы помыть пол и приготовить еду.
3. Меньше слушать чужое мнение и больше слушать себя. Повесить на видное место мантру «я – лучшая мать своему ребенку» и смотреть на нее почаще.
4. Чаще гулять с ребенком в слинге и бывать в обществе. В магазине, в гостях, в парке. Находить интересное именно для себя общение.
5. Собрать компанию из нескольких мам и проводить время вместе, делая что-нибудь интересное: йогу, поделки, все что угодно. Потому что, как говорится в пословице,»чтобы вырастить одного ребенка нужна целая деревня»
6. Найти интересное для себя занятие, которое можно было бы делать с ребенком и регулярно посвящать этому время.
7. Меньше бывать в детской поликлинике 🙂
8. Когда вас приглашают куда-то или вы хотите сделать что-то интересное для себя, не думать «теперь у меня есть ребенок, мне надо во многом себе отказывать», а думать «как мне организовать все так, чтобы попасть туда, куда я хочу вместе с моим ребенком». Максимально включать ребенка в любую взрослую деятельность.
9. Ходить на занятия для мам с детьми. Если их нет у вас в городе, то организуйте их сами. Опыт показывает, что потребность в них велика.
10. Найти возможность хотя бы полчаса в день (а потом и больше) проводить в одиночестве, возвращаясь к себе и своим нуждам. Пусть в это время с ребенком будет муж, бабушка, няня или еще кто-то, кому вы доверяете.
11. Регулярно заниматься физической нагрузкой и своим здоровьем. Если что-то болит, лечите это незамедлительно.
12. Сделать заботу о себе такой же важной как и забота о ребенке. Потому что если вы о себе не позаботитесь, то о ребенке уже некому будет позаботиться.
13. Купить себе красивую одежду. Если нет денег купить, попросите друзей подарить 🙂
14. Если есть возможность, наймите няню на несколько часов в неделю или привлеките бабушек для того, чтобы освободить себя.
15. В свободное время заниматься именно собой, а не нужными хозяйственными делами.
16. Путешествовать с грудными детьми, так как такие дети легче переносят смену климата, самолеты, и кормить их проще.
17. Слушать аудиокниги пока гуляете с коляской, смотреть кино, стараться каждый день получать новую информацию
18. Если вам нравится работать, найдите возможность немного работать. Или поменяйте деятельность так, чтобы можно было работать при ребенке.
19. Перестать ныть и начать что-то делать.
20 Дать мужу «инструмент» для успокаивания ребенка (фитбол для укачивания, удобный слинг для ношения), научить его, оставить подробную инструкцию, помочь ему поначалу, и тогда вы сможете больше времени посвящать себе, а муж почувствует себя уверенно и получит удовольствие от общения с ребенком.
21. Реже общаться с родственниками, которые вас раздражают. Или вообще не общаться.
22. Меньше читать книги о детях с разными цифрами, правилами, нормами и предложениями типа «каждая мать должна…, ребенок должен…»
23. Больше беседовать с друзьями, рассказывать о себе и своих делах.
24. Если невозможно пойти на праздник, устроить его дома, позвать гостей.
25. Каждый день делать что-нибудь новое, например, гулять по новому маршруту.
26. Расстаться с жертвенной позицией и проявлять инициативу, устраивая удобную жизнь именно для себя.
27. Обратиться к специалисту при необходимости.
28. Решить проблемы со своей мамой, если они есть. Хороший метод – расстановки по Хеллингеру. Если не можете решить, сведите влияние ваших конфликтов к минимуму.
29. Найти возможность побыть с мужем только вдвоем, погулять, подарить тепло друг другу. Тогда вам будет проще найти контакт при заботе о ребенке.
30. Расстаться с перфекционистскими установками типа «я дам своему ребенку все самое лучшее». Дайте ему просто хорошее. Так и вам будет легче жить, и ребенку будет проще расти.
Буду рада, если те, кто дочитал до конца, дополнят этот список.
psychologyjournal.ru
 Травматический опыт в детском возрасте, такой, как жестокое обращение, пренебрежение, развод родителей, ассоциирован с нарушением здоровья. Множество исследований направлено на изучение взаимосвязи между детской травмой и психопатологическими проявлениями. С их помощью было обнаружено, что такой опыт приводит к нарушениям в работе аффективной, мотивационной, мнестической системах, затрудняется функция контроля. Однако, каким образом психологическое неблагополучие «встраивается» в биологические процессы, остается невыясненным. Существующие исследования делают акцент на небольших областях головного мозга (миндалина, гиппокамп, префронтальная кора, теменная и височная доли больших полушарий головного мозга), и их результаты неоднозначны. Кросс-секционные и ретроспективные исследования воздействие детской травмы на биологическую составляющую организма основываются в основном на субъективных сведениях от респондентов, что способствует получению ошибочных результатов. В отличие от них, проспективные исследования изучают состояние здоровья при помощи биомаркеров. Однако, их не так много, а те, что есть – это нейровизуализационные исследования детей, где в качестве травматического опыта изучается помещение ребёнка в детский дом. Их результаты тоже неоднозначны.
Травматический опыт в детском возрасте, такой, как жестокое обращение, пренебрежение, развод родителей, ассоциирован с нарушением здоровья. Множество исследований направлено на изучение взаимосвязи между детской травмой и психопатологическими проявлениями. С их помощью было обнаружено, что такой опыт приводит к нарушениям в работе аффективной, мотивационной, мнестической системах, затрудняется функция контроля. Однако, каким образом психологическое неблагополучие «встраивается» в биологические процессы, остается невыясненным. Существующие исследования делают акцент на небольших областях головного мозга (миндалина, гиппокамп, префронтальная кора, теменная и височная доли больших полушарий головного мозга), и их результаты неоднозначны. Кросс-секционные и ретроспективные исследования воздействие детской травмы на биологическую составляющую организма основываются в основном на субъективных сведениях от респондентов, что способствует получению ошибочных результатов. В отличие от них, проспективные исследования изучают состояние здоровья при помощи биомаркеров. Однако, их не так много, а те, что есть – это нейровизуализационные исследования детей, где в качестве травматического опыта изучается помещение ребёнка в детский дом. Их результаты тоже неоднозначны.
В феврале 2021 года в журнале Biological Psychiatry было опубликовано исследование Maria Z. Gehred et al., направленное на изучение биологических последствий детской травмы. Авторы не стали выделять определенные зоны головного мозга, а сконцентрировали своё внимание на поверхности коры больших полушарий и её толщине. Авторы отобрали респондентов из исследования Dunedin Study – исследования, направленного на изучение здоровья и поведения в популяционно-репрезентативной когорте. Всего участников – 861 человек. Данные о самочувствии респондентов были доступны с рождения и уточнялись через небольшие промежутки времени до достижения участниками 45-летнего возраста. Когда респонденту исполнялось 45 лет, ему проводилось МРТ. Авторы выделили 10 категорий детской травмы. Все категории были поделены на две группы: 1 – непосредственное воздействие на ребёнка (физическое, эмоциональное, сексуальное насилия, физическое и эмоциональное пренебрежение), 2 – трудности в семье (лишение свободы одного из членов семьи, злоупотребление родителем психоактивными веществами, психическое заболевание родителя, насилие по отношению к одному из родителей, потеря родителя). Наличие детской травмы оценивалось проспективно, а также в возрасте 3 – 15 лет. В то же время проводилось структурированное интервью о наличии травмы в прошлом. Авторы приняли во внимание особенности нервнопсихического развития каждого респондента, уточнив пренатальные сложности, особенности неонатального периода, уровни развития когнитивных функций, моторики, эмоционального интеллекта. Когда респонденты достигали 45-летнего возраста, для оценки площади и толщины коры головного мозга, проводилась МРТ.
В ходе исследования статистически значимая ассоциированность обнаружилась между проспективно обнаруженными травматическими событиями в детском возрасте и уменьшением площади поверхности и снижении толщины коры головного мозга в 45 лет. Среди респондентов, заявлявших о наличии у себя детской травмы, были обнаружены схожие изменения только при действительно задокументированных фактах о ней.
Проспективно обнаруженная детская травма, в отличие от ретроспективных сведений, оказалась статистически значимо ассоциированной со снижением объёма серого вещества не только в миндалевидном теле и гиппокампе, как это считалось ранее, но и в области ствола мозга, хвостатого ядра, мозжечка, бледного шара, покрышки, таламуса, среднего мозга. Если о травме заявлялось только ретроспективно, то изменения наблюдались лишь в миндалевидном теле и гиппокампе.
Авторы заметили, что дети, подвергшиеся психологической травме, чаще находятся в низком социально-экономическом статусе. После статистической проверки не было обнаружено ассоциированности данного показателя с изменением площади поверхности и толщины коры головного мозга. Не было статистически значимой разницы между различными категориями травмы, кроме незначительного преобладания ассоциированности жестокого обращения со снижением площади поверхности коры головного мозга и уменьшения объёма прилежащего ядра, и ассоциированности депривации с истончением коры.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Во-первых, детская травма, которую наблюдали в ходе исследования, и травма, о которой заявлялось ретроспективно, ассоциированы с уменьшением площади поверхности коры, снижением её толщины и уменьшением объёма серого вещества. Во-вторых, наиболее статистически значимой оказалась корреляция изменений головного мозга с негативным опытом в детстве, о котором удались узнать проспективно. Корреляция не теряла значимость даже в тех случаях, когда респонденты, достигнув зрелого возраста, не сообщали о детской травме. В-третьих, изменения в мозге были распределены равномерно между различными его областями и распределялись в зависимости от места в функциональной иерархии: от сенсорных, сомато-двигательных зон – к зонам высших корковых функций.
В отличии от предыдущих исследований изменения были обнаружены не только в миндалевидном теле и гиппокампе, но и в области ствола мозга, хвостатого ядра, мозжечка, бледного шара, покрышки, таламуса, среднего мозга. Эти данные свидетельствуют о том, что в результате детской травмы могут формироваться аффективные, когнитивные, сенсорные и двигательные нарушения.
Полученные результаты не зависили от факторов риска недоразвития головного мозга, таких, как низкий социально-экономический статус, а так же не были специфичны для разного вида травматического опыта. Однако, связь жестокого обращения и депривации со снижением площади поверхности коры больших полушарий и уменьшением объёма прилежащего ядра была несколько заметнее, чем отностительно других групп травм. Данные результаты требуют уточнения в дальнейших исследованиях.
Автор: Вирт К.О.
Источник: Maria Z. Gehred, Annchen R. Knodt, Antony Ambler, Kyle J. Bourassa, Andrea Danese, Maxwell L. Elliott, Sean Hogan, David Ireland, Richie Poulton, Sandhya Ramrakha, Aaron Reuben, Maria L. Sison, Terrie E. Moffitt, Ahmad R. Hariri, Avshalom Caspi. Long-term neural embedding of childhood adversity in a population-representative birth cohort followed for five decades. Biological Psychiatry.
http://psyandneuro.ru