
Материал подготовлен совместными усилиями просветительского проекта «Психиатрия & Нейронауки» и Клиники психиатрии и наркологии
Доктор САН.
Скачать (PDF, 5.24MB)
Понос, гипермоторика кишечника, запор
Общие рекомендации. Жидкий стул может наблюдаться в начале лечения серотонинергическими антидепрессантами или как часть синдрома отмены при резком прекращении приема этих препаратов. Жидкий стул – преходящее явление и с ним можно справиться консервативными методами (например, восполняя потерю жидкости и принимая такие лекарства как лоперамид или субсалицилат висмута).
Серотонинергические антидепрессанты могут вызывать гипермоторику желудочно-кишечного тракта, обычно в начале лечения. Симптомы, как правило, проходят со временем. Как сообщается в информационных материалах производителей, в ходе регистрационных испытаний СИОЗС понос наблюдался в 6-20 % случаев, самая высокая частота наблюдалась при приеме вилазодона (28 %). У СИОЗСиН (например, дулоксетин, десвенлафаксин) более низкие показатели (~10 %), а самые низкие показатели в группе антидепрессантов (1-2 %, без отличий от плацебо) у бупропиона XL, миртазапина и венлафаксина XL.
Сильный или непрекращающийся понос во время приема лития или дивальпроекса может быть признаком токсического воздействия препаратов. Прием пароксетина, сертралина и карбамазепина связывают с микроскопическим колитом, который проходит после прекращения приема этих лекарств.
Запор относится к числу наиболее распространенных побочных эффектов препаратов, обладающих антимускариновыми антихолинергическими свойствами (например, многие антипсихотики второго поколения, ТЦА, бензатропин и некоторые СИОЗС, в особенности, пароксетин). В информационных материалах производителей сообщается, что в ходе регистрационных испытаний СИОЗС, СИОЗСиН, бупропиона и миртазапина запор наблюдался в 3-16 % случаев. Врачам следует, насколько это возможно, свести к минимуму антихолинергический эффект приема лекарств. В качестве консервативного лечения первого линии рекомендуется краткосрочный прием слабительных средств, а для оказания добавочного воздействия можно использовать препараты, стимулирующие перистальтику.
Желудочно-кишечное кровотечение
Общие рекомендации. СИОЗС, особенно в комбинации с нестероидными противовоспалительными препаратами или аспирином, могут увеличивать риск кровотечения в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Пациентам, принимающим СИОЗС, с язвенной болезнью или желудочно-кишечным кровотечением в анамнезе целесообразно назначить гастропротекторную терапию (например, ингибитор протонного насоса).
Прием СИОЗС связан с приблизительно двукратным повышением риска кровотечения в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, случающимся с частотой 1 кровотечение на 8000 выписанных рецептов. К механизмам, которые, как предполагается, лежат в основе этого явления, относят снижение агрегации тромбоцитов вследствие ингибирования захвата серотонина, а также непосредственное влияние на секрецию желудочной кислоты.
СИОЗС (но не ТЦА) повышают риск развития язвенной болезни в 1,5 раза, при этом риск снижается на 24 %, если параллельно принимаются ингибиторы протонного насоса (например, омепразол, лансопразол или пантопразол).
К факторам риска желудочно-кишечных кровотечений у пациентов, принимающих СИОЗС, относится прием нестероидных противовоспалительных препаратов, аспирина или антиагрегантов (с повышением риска в 8-28 раз), а также печеночная недостаточность или цирроз, в то время как параллельный прием ингибиторов протонного насоса может уменьшить риск кровотечения. О повышении риска кровотечения в нижних отделах желудочно-кишечного тракта во время приема СИОЗС сообщений нет.
Некоторые авторы предлагают назначать ингибиторы протонного насоса или другие гастропротекторные средства (например, блокаторы H2-гистаминовых рецепторов) тем принимающим СИОЗС пациентам, у кого в анамнезе есть кровотечение в верхних отделах желудочно-кишечного тракта или язвенная болезнь, однако в этом нет необходимости из-за низкого абсолютного риска кровотечения в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Другие специалисты рекомендуют прекращать прием СИОЗС перед хирургическими вмешательствами в том случае, если у пациента в анамнезе есть кровотечение в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, но эта рекомендация не получила статус универсальной и общепринятой.
Печеночная недостаточность и трансаминаземия
Общие рекомендации. При печеночной недостаточности большинство психотропных препаратов нужно назначать в пониженной дозировке, но в то же время достаточно мало препаратов абсолютно противопоказаны для пациентов с нарушениями функции печени. Хотя многие противосудорожные препараты, некоторые антидепрессанты и антипсихотики второго поколения могут изредка повышать уровень печеночных ферментов, регулярный лабораторный мониторинг, как правило, не так полезен как наблюдение за симптомами, свидетельствующими о гепатотоксичности.
Для оценки функций печени измеряется уровень печеночных ферментов (АЛТ и АСТ), других ферментов (например, щелочная фосфатаза), белков, вырабатываемых печенью (например, альбумин), а также таких показателей как общий белок, общий билирубин, протромбиновое время. Соотношение АСТ:АЛТ равное 2:1 или 3:1 часто указывает на гепатотоксическое влияние алкоголя. Подтвердить факт недавнего употреблению алкоголя в больших дозах можно, оценив уровень углеводдефицитного трансферрина, высокоспецифичного, хотя и не очень чувствительного, маркера приема алкоголя.
Гамма-глутамилтранспептидаза – фермент, синтезируемый печенью, является неспецифическим маркером нарушений функции печени, что иногда используется для определения употребления алкоголя даже в умеренном количестве или для выяснения причин повышения уровня щелочной фосфатазы. Повышенный уровень гамма-глутамилтранспептидазы может наблюдаться при застойной сердечной недостаточности или других состояниях, связанных с повреждением печени и сам по себе не указывает на причину нарушения функции печени.
Гепатотоксическое действие лекарств часто проявляется повышением уровня АЛТ, превосходящим повышение уровня АСТ. У лиц с избыточным весом, подверженных риску развития метаболического синдрома, легкая форма трансаминаземии (при которой уровни АЛТ и АСТ обычно не превышают верхнюю границу нормы более чем в 4 раза) может свидетельствовать о неалкогольном стеатогепатите, воспалительном процессе в печени, который может привести к гепатоцеллюлярным повреждениям, фиброзу и циррозу.
Прием многих психотропных препаратов, в том числе дивальпроекса, карбамазепина, ТЦА, СИОЗСиН, антипсихотиков второго поколения, может быть связан с умеренным повышением уровня ферментов печени. Например, трансаминаземия встречается у 5-15 % больных эпилепсией, принимающих карбамазепин, хотя за несколько лет наблюдений в этой группе пациентов было зафиксировано лишь несколько случаев значительного нарушения функции печени.
Есть сообщения о гепатотоксическом эффекте карбамазепина, дивальпроекса, дулоксетина и нефазодона. Повышение уровня печеночных ферментов могут вызвать многие непсихотропные препараты, включая ацетаминофен, нестероидные противовоспалительные препараты, статины, ингибиторы АПФ, омепразол, аллопуринол, некоторые антибиотики и оральные контрацептивы. Официальных рекомендаций производителей или клинических руководств, касающихся мониторинга уровня печеночных ферментов при приеме психотропных препаратов (за исключением дивальпроекса и карбамазепина) нет, если не считать рекомендации при появлении клинических признаков заболеваний печени (желтушное окрашивание склер и кожи, изменение цвета стула).
В литературе встречается указание на то, что во время приема противосудорожных препаратов следует проводить регулярный лабораторный мониторинг уровня печеночных ферментов или других параметров, говорящих о функциональности печени (например, протромбиновое время, активированное частичное тромбопластиновое время, уровень белка); однако более важным для контроля безопасности является умение распознавать клинические проявления печеночной недостаточности (например, тошнота, рвота, анорексия, вялость, желтуха).
В обычной ситуации большинство препаратов с печеночным клиренсом можно продолжать принимать, если уровень печеночных ферментов не превышает верхнюю границу нормы в 3 раза. Существующие к началу приема психотропных препаратов заболевания печени (например, гепатит, алкогольная болезнь печени) не являются противопоказанием для психотропных препаратов, метаболизируемых в печени. Для оценки степени печеночной недостаточности используется классификация Чайлда-Пью, учитывающая уровни общего билирубина, альбумина, наличие асцита, протромбиновое время и наличие печеночной энцефалопатии.
Гипераммониемия
Общие рекомендации. Если у пациентов, принимающих дивальпроекс или карбамазепин, резко изменяется психический статус, необходимо измерить уровень аммиака в крови, чтобы определить возможное наличие гипераммониемии. Если любой из этих препаратов является предполагаемой причиной гипераммониемии, нужно прекратить их прием и рассмотреть возможность назначения L-карнитина по 1000 мг два раза в день и/или лактулозы для ускорения выведения аммиака из крови Бессимптомная гипераммониемия, вызванная дивальпроексом или карбамазепином, не требует вмешательства.
Референсные значения при лабораторной оценке уровня аммиака в крови могут варьироваться, но обычно клинически значимым повышением считается уровень выше 70 мкг/дл у взрослых. Гипераммониемия может быть связана с печеночной энцефалопатией и требует проведения дифференциальной диагностики у пациентов с резким изменением психического статуса при заболеваниях печени (например, цирроз, гепатит, синдром отмены алкоголя). Оценивая возможность печеночной энцефалопатии нужно обратить внимание на рвоту, астериксис и другую очаговую неврологическую симптоматику (например, гиперрефлексия).
В начале 1980 гг. стали появляться сообщения о случаях бессимптомной гипераммониемии, а также о гипоаммониемической энцефалопатии у детей и взрослых с эпилепсией, принимающих дивальпроекс. Позднее были опубликованы исследования о бессимптомной гипераммониемии (аммиак в крови >97 мкг/дл) с нормальным уровнем печеночных ферментов у 51 % взрослых пациентов психиатрических стационаров, принимающих дивальпроекс, для ослабления которой достаточно было лишь снизить дозу дивальпроекса. Примечательно, что четкой корреляции между бессимптомной гипераммониемией и уровнем вальпроата в крови обнаружено не было. Клиническое значение бессимптомной гипераммониемии, вызванной дивальпроексом, если таковое вообще есть, неизвестно.
О гипераммониемии также сообщается как об идиосинкратическом феномене, возникающем в связи с приемом карбамазепина, при отсутствии лабораторных показателей печеночной недостаточности, и ослабевающем после орального приема лактулозы и прекращения приема карбамазепина. К другим возможным причинам гипераммониемии относится прием барбитуратов, опиатов, диуретиков, курение сигарет, а также гемолитические процессы (например, кровотечение в желудочно-кишечном тракте), сниженный клиренс аммиака из-за молниеносной печеночной недостаточности (например, после передозировки ацетаминофена), врожденные нарушения обмена веществ как у детей, так и у взрослых. Избыточная физическая нагрузка или судороги также могут увеличивать производство аммиака в организме.
Много факторов предрасполагают к развитию гипераммониемии во время приема дивальпроекса, в их числе алкоголизм, высокий уровень азота в пище вместе со сниженной калорийностью питания, расстройства цикла мочевины у детей, комбинирование противосудорожных препаратов у больных эпилепсией. Важно отметить, что дивальпроекс может напрямую повышать уровень аммиака в крови, сокращая запасы карнитина в организме, аммонийного соединения, синтезируемого в печени из незаменимых аминокислот метионина и лизина, и необходимого для β-окисления жирных кислот. Измерение уровня карнитина в крови считается неинформативным при оценке его биодоступности в печени, потому что он хранится главным образом в мышцах. Применение пероральной лактулозы обычно показано тем пациентам с гипераммониемией, у кого проявляются клинические признаки энцефалопатии.
В сообщениях о клинических случаях говорится о том, что пищевая добавка L-карнитин (1 г дважды в день) может предотвратить появление признаков летаргии и замедления умственной деятельности во время лечения дивальпроексом. В настоящее время не существует консенсуса по вопросу о необходимости регулярного мониторинга уровня аммиака в крови у пациентов без признаков летаргии или других признаков энцефалопатии, а также по вопросу об использовании L-карнитина в виде пищевой добавки. Есть мнение, что, учитывая относительную редкость гипераммониемии с симптомами и сомнительное клиническое значение ее бессимптомной формы, в регулярном измерении уровня аммиака во время лечения дивальпроексом нет необходимости, но такое исследование необходимо провести, если у пациента, принимающего дивальпроекс, резко изменяется психический статус. В таких случаях улучшение может принести прием L-карнитина (1 г дважды в день).
Мальабсорбция
Общие рекомендации. Некоторые противосудорожные препараты могут влиять на поглощение или метаболизм витамина В12 и фолиевой кислоты. Беременным во время приема противосудорожных препаратов обычно рекомендуются пищевые добавки с фолиевой кислотой для минимизации риска развития дефекта нервной трубки. Однако скрининг или прием пищевых добавок при проведении противосудорожной терапии у пациентов, которые не болеют эпилепсией, обычно не назначаются, если нет клинических признаков дефицита витамина В12 и фолиевой кислоты.
Пониженный уровень витамина В12 и фолиевой кислоты у взрослых пациентов с эпилепсией связаны с приемом ряда противосудорожных препаратов, включая карбамазепин, дивальпроекс, габапентин, окскарбазепин и топирамат (но не ламотриджин или зонисамид). Одной из причин может быть нарушение всасывания в кишечнике, хотя есть и другие объяснения этого феномена, включая нарушение связывания с плазмой крови, нарушение почечной секреции и (по крайней мере, в случае с карбамазепином, окскарбазепином или топираматом) ускоренный метаболизм за счет индукции микроферментов.
Из-за того что фолиевая кислота и витамин В12 необходимы для преобразования гомоцистеина в метионин, их недостаток может привести к повышению уровня гомоцистеина в крови, что в свою очередь предрасполагает к повреждению эндотелия сосудов, сердечно-сосудистым или цереброваскулярным заболеваниям. Низкий уровень витамина В12 или фолиевой кислоты также может вызвать пернициозную анемию, нейропатию, когнитивный дефицит, остеопороз, помимо других нарушений метаболизма и гомеостаза.
Хорошо известно, что снижение уровня фолиевой кислоты в крови из-за приема противосудорожных препаратов приводит к дефектам нервной трубки. Некоторые специалисты выступают за проведение лабораторного мониторинга уровня фолиевой кислоты и витамина В12 в крови при использовании большинства противосудорожных препаратов во время лечения женщин (независимо от наличия беременности) и мужчин, а также за назначение пищевых добавок (например, 1 мг/д фолиевой кислоты или 1000-2000 мкг/д витамина В12), однако официальных рекомендаций Американского эпилептического общества и Американской академии неврологии, поддерживающих эту точку зрения нет (на момент выхода первого издания книги “Managing the Side Effects of Psychotropic Medications” в 2012 г.).
Тошнота и дискомфорт в животе
Общие рекомендации. Тошнота часто встречается как преходящий побочный эффект серотонинергических антидепрессантов, которые неизбирательно стимулируют серотониновые рецепторы типа 5-HT3, и может быть минимизирована приемом препаратов с едой, использованием субсалицилата висмута или безрецептурных антигистаминных средств. Такие препараты как триметобензамид или прометазин могут быть полезны в тех случаях, когда сильная тошнота сохраняется долгое время.
Серотонинергические препараты обычно вызывают тошноту из-за афинности к рецепторам 5-НТ3. Соответственно, психотропные средства, блокирующие постсинаптические рецепторы 5-НТ3 (в особенности, миртазапин или оланзапин) вызывают тошноту с меньшей вероятностью, чем неселективные агонисты этих рецепторов, и могут обладать противорвотными свойствами.
Во время приема большинства психотропных препаратов тошнота и дискомфорт в животе обычно проходят сами. Антипсихотики в большинстве случаев не вызывают тошноту, а некоторые предлагаются на рынке как противорвотные средства (например, такие фенотиазины как прохлорперазин или метоклопрамид), правда, с высоким риском развития экстрапирамидных побочных эффектов.
Жалобы пациентов на тошноту следует оценивать не только в контексте привыкания к новому лекарству, но также и как вероятный признак недостаточной приверженности лечению с частыми пропусками приема и состоянием похожим на синдром отмены.
Есть отдельные сообщения о том, что дженерики серотонинергических антидепрессантов могут с большей вероятностью вызывать тошноту и дискомфорт в животе, по сравнению с лекарствами-оригиналами. Что касается лития, то препараты длительного действия, которые по большей части абсорбируются в дистальных отделах желудочно-кишечного тракта (например, эскалит CR), или цитрат лития могут реже вызывать дискомфорт в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, но зато чаще вызывать расстройства в нижнем отделе (например, жидкий стул или понос).
Иногда целесообразно провести дополнительную фармакотерапию для ослабления тошноты, хотя важнее определить, является ли тошнота проявлением более серьезного побочного эффекта (например, панкреатит из-за дивальпроекса) или токсического воздействия лекарства (например, повышенный уровень лития). Неврологические симптомы (например, атаксия, тремор) или симптомы, связанные с желудочно-кишечным трактом (например, спазмы в животе), у пациентов, принимающих литий, указывают на то, что тошнота может быть проявлением токсического действия препарата, а не просто безобидным побочным эффектом, поддающемся симптоматическому лечению.
Антигистаминные препараты с противорвотным действием, такие как триметобензамид (300 мг трижды в день, по необходимости) или прометазин (12,5-25 мг дважды в день, по необходимости), являются, пожалуй, наиболее надежными и безопасными препаратами для лечения преходящей тошноты. Прохлорперазин и метоклопрамид также эффективны, но они могут вызывать двигательные расстройства, обусловленные их антидофаминовым действием, что ограничивает возможности долговременного применения.
Панкреатит
Общие рекомендации. Пациентов с симптоматикой “острого живота” необходимо немедленно осмотреть. Пациентов, принимающих дивальпроекс, или, что встречается реже, некоторые антипсихотики второго поколения (например, кветиапин, оланзапин, клозапин) нужно обследовать на предмет ятрогенного панкреатита, проведя физикальную диагностику, измерение уровня липазы и амилазы, и, возможно, рентгенографию. Если развился острый панкреатит, прием вышеупомянутых препаратов следует отменить и не возобновлять.
В редких случаях прием дивальпроекса (вне зависимости от типа высвобождения) связан с острым панкреатитом. Как объяснить эту связь, пока еще непонятно. В 1979-2005 гг. во всем мире было зарегистрировано 90 случаев, хотя реальная заболеваемость может быть выше. Сообщалось о случаях заболевания как у тех, кто начал прием препарата недавно, так и у тех, кто принимал его долговременно, через 19 лет после начала приема. Мониторинг уровня липазы или амилазы у тех, кто принимает дивальпроекс, не рекомендуется и не является оправданным при отсутствии клинических проявлений острого панкреатита (симптоматика “острого живота”).
Прием некоторых антипсихотиков второго поколения (например, кветиапин, оланзапин, клозапин), по непонятным причинам, связан с острым панкреатитом, вне зависимости от гиперлипидемии или гипергликемии.
Многие непсихотропные препараты также могут вызывать острый панкреатит; к ним относятся эстроген, кальций, антихолинэстеразные средства, тиазидные диуретики, пентамидин, ингибиторы АПФ, фуросемид, тетрациклин, метронидазол, изониазид, рифампин, сульфаниламиды, циклоспорин, аспарагиназа, винкаалкалоиды и другие противоопухолевые препараты. Следует с вниманием отнестись к другим факторам, повышающим риск острого панкреатита, в числе которых злоупотребление алкоголем или алкогольная зависимость (часто присутствующие как коморбидные состояния у пациентов, принимающих дивальпроекс или антипсихотики второго поколения, например у пациентов с биполярным расстройством или импульсивной агрессией), а также гиперлипидемия. При остром панкреатите прием дивальпроекса или вышеупомянутых антипсихотиков второго поколения следует отменить и не возобновлять.
Автор перевода: Филиппов Д.С.
Редакция: Касьянов Е.Д.
Источник: Joseph F. Goldberg, Carrie L. Ernst. Managing the Side Effects of Psychotropic Medications. American Psychiatric Association, 2012 pp. 187-199
http://psyandneuro.ru
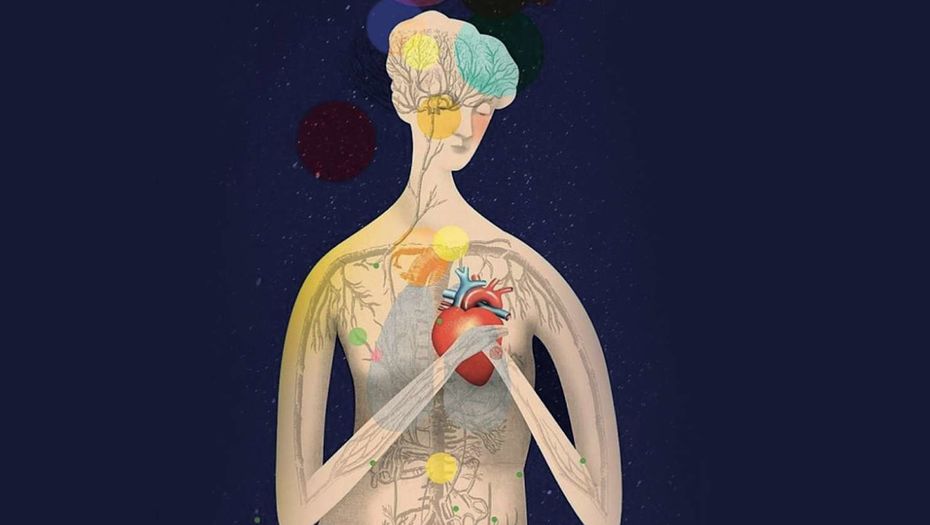 Наши тело и психика очень тесно связаны с друг другом. И то, что происходит в нашей эмоциональной жизни напрямую отражается на нашем теле. Это базовое положение телесно-ориентированной терапии и психосоматики – сферы на стыке медицины и психологии, изучающей расстройства, вызванные в первую очередь не нарушениями в работе организма, а эмоциональными факторами или особенностями личности самого человека. В народе это иллюстрируют поговоркой «Все болезни от нервов.» На самом деле, конечно же, не все – есть состояния, к которым психология не причастна, но, когда анализы и медицинские осмотры ничего не обнаруживают, а у человека есть жалобы на свое состояние, можно говорить о психосоматическом заболевании.
Наши тело и психика очень тесно связаны с друг другом. И то, что происходит в нашей эмоциональной жизни напрямую отражается на нашем теле. Это базовое положение телесно-ориентированной терапии и психосоматики – сферы на стыке медицины и психологии, изучающей расстройства, вызванные в первую очередь не нарушениями в работе организма, а эмоциональными факторами или особенностями личности самого человека. В народе это иллюстрируют поговоркой «Все болезни от нервов.» На самом деле, конечно же, не все – есть состояния, к которым психология не причастна, но, когда анализы и медицинские осмотры ничего не обнаруживают, а у человека есть жалобы на свое состояние, можно говорить о психосоматическом заболевании. Материал подготовлен совместными усилиями просветительского проекта «Психиатрия & Нейронауки» и Клиники психиатрии и наркологии
Материал подготовлен совместными усилиями просветительского проекта «Психиатрия & Нейронауки» и Клиники психиатрии и наркологии  Наиболее распространенные психические расстройства – от депрессии и тревоги до ПТСР – связаны с нарушением сна. Расстройства сна, связанные со злоупотреблением ПАВ, не являются исключением. Эта связь может быть сложной и двунаправленной: с одной стороны употребление ПАВ вызывает проблемы со сном, но с другой стороны бессонница (или недостаточный сон) также могут быть факторами риска употребления наркотиков и алкоголя. Признавая важность этого несколько упущенного из виду фактора, исследователи уделяют повышенное внимание сну и его нарушениям и ищут способы целенаправленного воздействия на симптомы инсомнии при лечении и профилактике расстройств, связанных с употреблением ПАВ.
Наиболее распространенные психические расстройства – от депрессии и тревоги до ПТСР – связаны с нарушением сна. Расстройства сна, связанные со злоупотреблением ПАВ, не являются исключением. Эта связь может быть сложной и двунаправленной: с одной стороны употребление ПАВ вызывает проблемы со сном, но с другой стороны бессонница (или недостаточный сон) также могут быть факторами риска употребления наркотиков и алкоголя. Признавая важность этого несколько упущенного из виду фактора, исследователи уделяют повышенное внимание сну и его нарушениям и ищут способы целенаправленного воздействия на симптомы инсомнии при лечении и профилактике расстройств, связанных с употреблением ПАВ.