 В декабрьском номере журнала Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry опубликовали исследование Ramya Srinivasan et al., посвящённое переходу раздражительности у детей в депрессивный эпизод или самоповреждающее поведение в подростковом возрасте. Исследовав данные 18552 человек, учёные обнаружили, что важно не столько наличие раздражительности, сколько степень её снижения с возрастом. Так, у респондентов, у которых раздражительность не уменьшалась к 5 и 7 годам, в 14 лет депрессия и самоповреждающее поведение выявлялась чаще.
В декабрьском номере журнала Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry опубликовали исследование Ramya Srinivasan et al., посвящённое переходу раздражительности у детей в депрессивный эпизод или самоповреждающее поведение в подростковом возрасте. Исследовав данные 18552 человек, учёные обнаружили, что важно не столько наличие раздражительности, сколько степень её снижения с возрастом. Так, у респондентов, у которых раздражительность не уменьшалась к 5 и 7 годам, в 14 лет депрессия и самоповреждающее поведение выявлялась чаще.
Депрессия зачастую начинается в подростковом возрасте и часто сопровождается несуицидальными или суицидальными самоповреждениями (НССП и ССП соответственно). При этом механизм такой взаимосвязи остаётся да конца не выясненным. Под раздражительностью у детей понимается склонность к внешнему проявлению агрессии в ответ на фрустрирующие ситуации. Раздражительность может встречаться как часть нормального развития ребёнка, а также может быть симптомом психического расстройства. Формирование устойчивости и научение преодоления фрустрации способствует снижению риска развития психических расстройств.
С возрастом, когда учебная и социальная нагрузка возрастает, раздражительность может привести к избеганию ситуаций, воспринимаемых как сложных. Также раздражительность повышает ощущение угрозы со стороны окружающих, что способствует нарушению межличностного функционирования. При помощи самоповреждающего поведения подростки пытаются справиться с раздражением. Однако, работ, изучающих связь между НССП и раздражительностью, нет. Связь с депрессией также неоднозначна. Авторы нового исследования предполагают, что необходимо рассматривать раздражительность в динамике. Они полагают, что дети, чья раздражительность не снизилась к подростковому возрасту, имеют больший риск развития депрессии и самоповреждающего поведения.
Для свой работы авторы воспользовались базой данных исследования The Millennium Cohort Study (MCS). База данных содержала информацию о детях 9-месячного возраста, которые родились в период 2000 – 2002 гг. В возрасте 14 лет этим детям провели тестирование на наличие депрессивной симптоматики при помощи опросника The short Mood and Feelings Questionnaire (sMFQ). Самоповреждающее поведение определялось в том же возрасте. Всем участникам задавали вопрос о том, ранили ли они себя каким-либо способом специально. Для выявления раздражительности в детском возрасте матерям предлагались опросники Child Social Behaviour Questionnaire (CSBQ) и Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Особенный интерес представляли вопросы о том, легко ли расстраивается ребёнок, быстро ли успокаивается, насколько сильны перепады настроения, часты ли вспышки гнева.
Всего было исследовано материалов о 18552 детей. Из них 16048 человек имели данные по крайней мере по 1 из 3 измерений раздражительности. Мальчики, а также дети с родителями, страдающими депрессией, дети с родителями, имеющими низкий уровень образования, дети с историей отвержения со стороны общества оказались более склонными к раздражению. Наибольший показатель раздражительности выявлен в 3 года. После этого возраста он постепенно снижался.
Средний показатель по опроснику sMFQ у лиц с по крайней мере по одному измерению раздражительности в 14-летнем возрасте составил 5,55. У мальчиков он был ниже, чем у девочек. Самоповреждающее поведение также преобладало среди девочек.
При одномерном измерении связи авторы определили, что раздражительность в возрасте 3 лет ассоциирована с депрессией и самоповреждающим поведением в 14 лет. Однако, при включении в подсчёты конфаундеров и ковариат эта связь не была значимой. Связь раздражительности в 5 лет с депрессией и самоповреждающим поведением в 14 лет сохранялась значимой и после дополнительных измерений. Интересно, что такая же связь наблюдалась и в 7-летнем возрасте, но после поправки на пол авторы обнаружили, что раздражительность в 7 лет ассоциирована с самоповреждающим поведением у мальчиков, но не у девочек.
По результатам одномерного измерения и после поправок были получены данные о том, что более высокие баллы по шкале снижения раздражительности связаны с депрессией и самоповреждающим поведением в 14 лет. Анализ по полу выявил значимость такой связи с самоповреждающим поведением у мальчиков, но не у девочек.
Новое исследование подтвердило данные из литературы о том, что для прогноза важно не только наличие раздражительности в детском возрасте, но и её динамика; что необходимы психологические интервенции для детского возраста с целью снижения раздражительности.
Влияние раздражительности на формирование самоповреждающего поведения и депрессии может быть связано с неразвитыми навыками эмоциональной регуляции, сложностями в детско-родительских отношениях, появлением избегающего и другого дезадаптивного поведения, сложностями в межличностном функционировании. Возможно, что раздражительность в 5 – 7 лет является проявлением патологического процесса, которой к 14 годам переходит в депрессивную симптоматику.
Причины, почему самоповреждающее поведение связано с раздражительностью в детском возрасте в большей степени у мальчиков, чем у девочек, назвать сложно. Возможно, существует вероятность неизменности измерений, и раздражительность может быть выражена иначе у мальчиков, чем у девочек. Возможно, сочетание раздражительности с присущей в большей степени мальчикам импульсивности увеличивает риск самоповреждающего поведения.
Говоря о необходимости психотерапевтических интервенций для детей, авторы сообщают об эффективностям тренинга родительских компетенций и когнитивно-поведенческой терапии. С учётом возраста, родительский тренинг будет более подходящим. Авторы полагают, что необходимо низкоинтенсивное обучение родителей для всей популяции с усилением интенсивности тренинга для детей с раздражительностью.
Перевод: Вирт К. О.
Источник: Ramya Srinivasan et al. Changes in Early Childhood Irritability and Its Association With Depressive Symptoms and Self-Harm During Adolescence in a Nationally Representative United Kingdom Birth Cohort. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. https://www.jaacap.org/article/S0890-8567(23)00344-1/fulltext
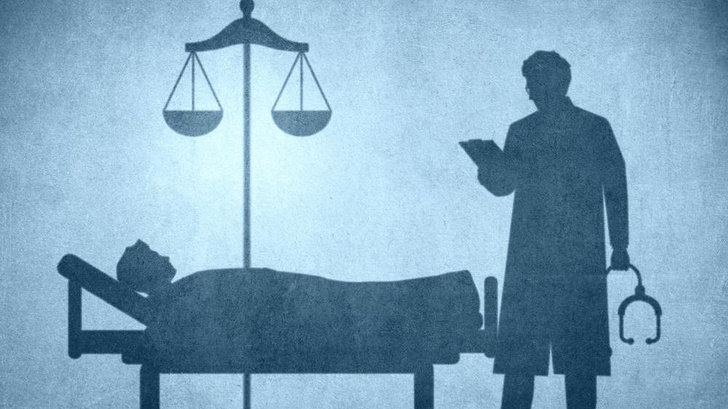 28-летняя Зорая Тер Беек из нидерландского Олдензала рассказала, что согласилась на эвтаназию. Девушки не станет в начале мая — рассказываем, почему она пошла на такой шаг и как на это отреагировали пользователи соцсетей.
28-летняя Зорая Тер Беек из нидерландского Олдензала рассказала, что согласилась на эвтаназию. Девушки не станет в начале мая — рассказываем, почему она пошла на такой шаг и как на это отреагировали пользователи соцсетей. Lapsen masennus johtuu samoista syistä kuin aikuisen. Tunteiden ailahtelu kuuluu lapsen normaaliin kehitykseen. Jos lapsi sulkeutuu täysin tai saa pahoja raivokohtauksia, kyse voi olla masennuksesta.
Lapsen masennus johtuu samoista syistä kuin aikuisen. Tunteiden ailahtelu kuuluu lapsen normaaliin kehitykseen. Jos lapsi sulkeutuu täysin tai saa pahoja raivokohtauksia, kyse voi olla masennuksesta.
