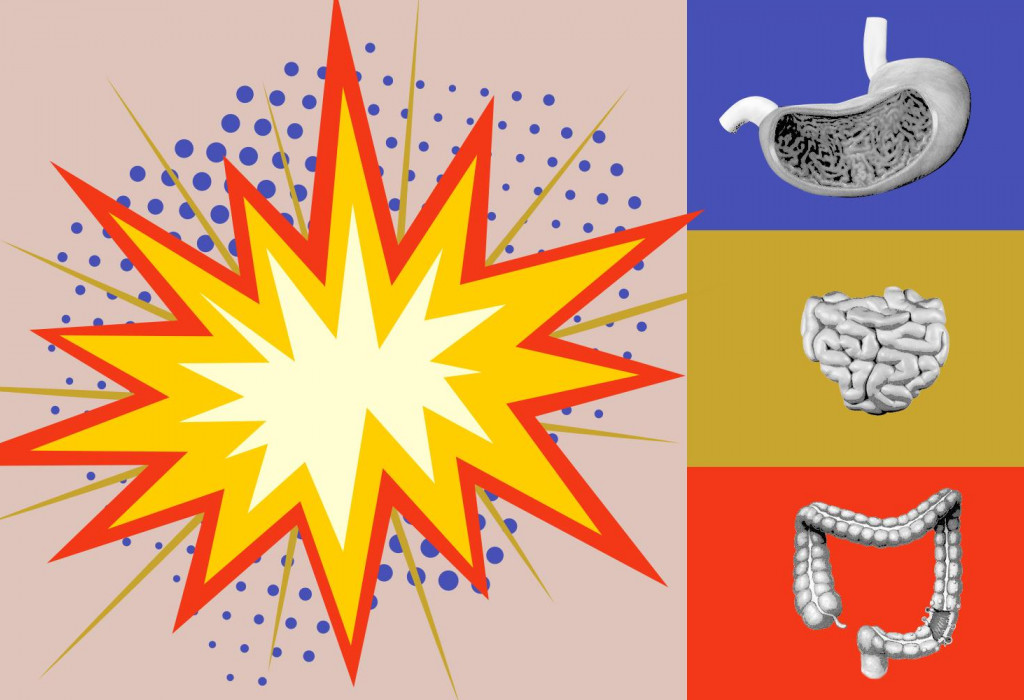 Как возникают «шоковые язвы», как нарушения двигательной активности внутренних органов связаны со стрессом и почему пациентам с болезнями ЖКТ помогают антидепрессанты
Как возникают «шоковые язвы», как нарушения двигательной активности внутренних органов связаны со стрессом и почему пациентам с болезнями ЖКТ помогают антидепрессанты
Один из «крестных отцов» физиологии стресса Ганс Селье в 1930-х годах заметил, что у крыс, которые испытывали неприятные переживания в течение длительного времени, возникали язвы. Сегодня нейрогенная теория язвы отошла на задний план, уступив место бактериальной, но со стрессом до сих пор связывают многие болезни желудочно-кишечного тракта, хотя эта связь не всегда прямая и очевидная. Гастроэнтеролог Алексей Парамонов объясняет, как стресс влияет на работу пищеварительной системы. Материал создан в рамках гида «Хороший / плохой стресс».
Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов. Упоминаемые в статье лекарства и методы лечения не являются медицинской рекомендацией. Лекарства и методы лечения может назначать только лечащий врач!
Заболевания желудочно-кишечного тракта можно разделить на органические, которые связаны с поражениями различных органов, и функциональные, которые ассоциированы с нарушениями моторной функции и висцеральной чувствительностью. В числе органических заболеваний — гастриты и язвы, а среди функциональных расстройств наиболее известны функциональная диспепсия и синдром раздраженного кишечника. На развитие и тех и других заболеваний стресс может оказывать влияние в разной степени. Чаще всего он не является единственной причиной этих состояний, а усугубляет действие прочих факторов.
Гастриты, язвы и стресс
Гастрит и язвы — это воспаления и дефекты на стенках органов: желудка, пищевода, двенадцатиперстной кишки. Они образуются в результате действия соляной кислоты и пепсинов — ферментов, с помощью которых происходит расщепление белков, — на слизистую оболочку органа. Эти заболевания часто связывают со стрессом, но эта связь сложнее, чем может показаться на первый взгляд.
Одним из первых связь между стрессом и органическими заболеваниями ЖКТ увидел Ганс Селье. Он заметил, что у крыс, которые длительное время подвергались воздействию стрессоров, появлялись язвы. Нейрогенная теория язвенной болезни на долгое время стала ключевой, и, когда появились исследования, в которых возникновение язв связывалось с бактерией Helicobacter pylori, медицинское сообщество долгое время не воспринимало их всерьез. Но сегодня стресс не доминирует в списке причин развития язв и гастрита: на первом месте с огромным отрывом оказывается бактерия Helicobacter pylori, которая производит ферменты, разрушающие слизь — естественную защиту органов от действия соляной кислоты; на втором — прием нестероидных противовоспалительных препаратов.
Язва, возникшая только из-за эмоционального стресса, — это экзотика. У большинства пациентов с язвой или язвенным кровотечением выявляют Helicobacter pylori, и стресс лишь ей сопутствует. Дело в том, что сам по себе стресс не является единственной причиной заболеваний ЖКТ — он скорее усиливает прочие факторы.
А вот физический стресс в некоторых случаях может иметь тяжелые последствия для желудка. У людей, которые подвергаются сложным хирургическим операциям или получают серьезную травму, есть повышенный риск образования «шоковой» язвы. Она может появиться буквально за несколько часов. Считается, что это связано с выбросом веществ, которые вызывают снижение кровоснабжения ЖКТ, сужение сосудов и, как следствие, повреждение эндотелия стенки желудка из-за нехватки кислорода и питательных веществ — своего рода локальную ишемию. Хирурги знают об этих рисках и занимаются профилактикой шоковых язв.
Функциональные расстройства: падчерицы советской медицины
В последние годы ввиду активной борьбы с бактерией Helicobacter pylori ассоциированные с ней органические заболевания, такие как гастриты и язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, стали менее распространенными, чем раньше. На первый план вышли функциональные расстройства, которые присутствуют у 70–90% пациентов и которые часто связаны со стрессом. Советская медицина не рассматривала функциональные расстройства ЖКТ как полноценную группу заболеваний и укладывала их в такие абстрактные и полумистические понятия, как вегетососудистая дистония, невроз желудка и невроз кишечника. Поэтому в России до сих пор наблюдаются трудности с диагностикой и лечением этих заболеваний.
Функциональные расстройства ЖКТ — это большая группа заболеваний. Их описанием и классификацией занимается «Римский фонд» — международная группа гастроэнтерологов. Актуальная на сегодняшний день информация содержится в разработанных ими «Римских критериях IV». Если не углубляться в детали, почти все проявления, описанные в этом документе, укладываются в два состояния: функциональная диспепсия и синдром раздраженного кишечника с подвариантами.
Функциональная диспепсия характеризуется изменением чувствительности нервных рецепторов в стенке желудка, двенадцатиперстной кишки и пищевода и изменением двигательной активности этих органов.
Похожие механизмы могут реализовываться на уровне кишечника, провоцируя боль в животе, бурление, понос или запор — комплекс этих проявлений и называют синдромом раздраженного кишечника (СРК).
Обычно функциональная диспепсия проявляется болью, чувством переполнения, дискомфорта, иногда изжогой, отрыжкой. Эти симптомы возникают на фоне неизмененного желудка при гастроскопии. И даже если взять биопсию желудка, не обнаружится никакой связи между выраженностью микроскопических изменений и выраженностью симптомов.
Но не стоит думать, что функциональные расстройства диагностируют только в том случае, если не найдено никаких органических повреждений. Язвы и гастриты могут сопровождать функциональные расстройства и даже быть их следствием. Например, на фоне стресса у человека, ведущего здоровый образ жизни, может возникнуть функциональная диспепсия с изжогой, при которой кислота из желудка выбрасывается в пищевод и провоцирует язву. У пациента может одновременно быть гастрит и функциональная диспепсия. Гастрит важно лечить, потому что длительное нахождение Helicobacter pylori в желудочно-кишечном тракте коррелирует с повышенным риском развития рака, и лечение гастрита выступает здесь профилактикой. Но чтобы помочь пациенту здесь и сейчас, необходимо бороться с функциональной диспепсией, которая доставляет человеку много страданий, в отличие от гастрита, который легко контролируется противокислотными препаратами и почти не вызывает боли.
Еще одно функциональное расстройство из «Римских критериев IV» — спазм сфинктера Одди. Сфинктер — это круговая мышца, которая находится в месте, где желчный проток впадает в двенадцатиперстную кишку. У многих людей анатомия такова, что этот же сфинктер контролирует и выход поджелудочного сока. Туда же впадает и вирсунгов проток поджелудочной железы. У некоторых людей они разделены.
Проявления спазма сфинктера Одди могут быть жесткими: высокоинтенсивная боль в правом подреберье, которая может отдавать в спину, грудь и даже в челюсть и нередко сопровождается рвотой и чувством тяжести в желудке. Если приступы повторяются, это может быть бескаменный холецистит или панкреатит. Но в большинстве случаев это дисфункция сфинктера Одди (раньше употреблялось название «дискинезия желчевыводящих путей»). При частых и длительных спазмах сфинктера Одди уровень печеночных ферментов может повышаться, и возникает иллюзия, что происходит повреждение печени.
Спровоцировать спазм может определенная пища, например сочетание жирного с холодным. Кроме того, гиперреактивность, готовность этого сфинктера сокращаться зависит от эмоционального фона — наличия тревоги или депрессии.
Стресс и функциональные расстройства
С функциональной диспепсией ассоциированы психологические феномены, такие как тревога, депрессия, астения, апатия. С биохимической точки зрения они связаны с нехваткой нейромедиаторов, таких как норадреналин, серотонин и дофамин, которые обслуживают в том числе работу внутренних органов.
Деятельностью желудочно-кишечного тракта управляет часть автономной (вегетативной) нервной системы, которая называется энтеральной нервной системой. Составляющие ее нервные сплетения располагаются в оболочках полых органов, таких как пищевод, желудок, тонкая и толстая кишка, в желчных и панкреатических протоках. Они регулируют работу гладких мышц органов, обладающих сократительной активностью. В клетках этих мышц содержатся различные рецепторы (дофаминовые, серотониновые, адренорецепторы), которые реагируют на выделение тех или иных нейромедиаторов. Посредством влияния на них достигается согласованность в работе органов. Вторым этажом идет управление, связанное с центральной нервной системой и высшей нервной деятельностью.
Из-за дефицита серотонина и норадреналина в районе синапсов головного мозга и синапсов нервных узлов в стенке кишечника нарушается двигательная активность и повышается чувствительность желудка к соляной кислоте, с помощью которой переваривается пища. Желудок, который предназначен для того, чтобы в нем постоянно находилась кислота, внезапно начинает ее ощущать и транслировать эту информацию в мозг как боль. Возникают активные рефлюксы: желудок внезапно сжимается и с силой выбрасывает свое содержимое в пищевод. При синдроме раздраженного кишечника похожие механизмы развиваются на уровне кишечника.
Если болезненные ощущения возникают регулярно и они мучительны, то, даже если у пациента исходно не было каких-то эмоциональных расстройств, у него со временем могут появиться тревога, усталость и депрессия. Эти явления поддерживают друг друга, и возникает порочный круг: депрессия провоцирует функциональные расстройства, а функциональные расстройства — депрессию.
Как лечить функциональные расстройства
Симптомы функциональной диспепсии могут беспокоить человека долгие годы и нарушать качество жизни. При этом они плохо слушаются препаратов. Поэтому ее лечение многоступенчатое.
Согласно рекомендациям «Римских критериев IV», которые представлены в виде так называемой пирамиды лечения, первое, что нужно сделать, — привести в порядок образ жизни пациента с функциональной диспепсией. Рекомендуется не переедать, заниматься физической активностью, спать достаточное количество часов, регулярно отдыхать от работы. Второй этаж пирамиды — препараты, которые влияют на гастроэнтерологические симптомы: прокинетики или спазмолитики, а также ингибиторы протонной помпы, которые подавляют кислоту. Третьим компонентом является когнитивно-поведенческая психотерапия и психотропные препараты. Также исследуется эффективность медитации и гипнотерапии. На четвертом этаже пирамиды — соединение всех вышеперечисленных методов. Иногда такое лечение затягивается на месяцы и годы, но люди выздоравливают.
При синдроме раздраженного кишечника методы лечения примерно те же, за тем исключением, что ингибиторы протонной помпы, подавляющие кислоту, не применяются.
Колоссальный прогресс в лечении функциональных расстройств произошел с внедрением в схему антидепрессантов. Если до этого успешными признавались не более 20% курсов лечения, то при использовании психотропных препаратов успех приходит в 80% случаев. Наибольшую доказательную базу из всех психотропных препаратов сейчас имеют некоторые виды антидепрессантов: классический трициклический амитриптилин (но из-за тяжелых побочных эффектов его редко назначают) и более современные дулоксетин и сертралин. В последнее время появились исследования и по другим препаратам. Механизм действия антидепрессантов в случае с функциональными расстройствами ЖКТ пока до конца не ясен. В самом общем виде: антидепрессанты повышают уровень серотонина и норадреналина в районе синапсов головного мозга и нервных узлов в стенках органов, что снижает болевую чувствительность. Антидепрессанты используются как обезболивающие препараты не только в гастроэнтерологии — они высокоэффективны при боли в суставах или тройничном нерве, причем работают вне зависимости от наличия депрессии у пациента.
Не все так просто
Тем не менее прямая связь функциональных расстройств со стрессом выглядит упрощенной. В любом справочнике или руководстве по функциональным болезням есть фраза, что механизм их развития до конца не понятен. У некоторых пациентов не выявляется никаких психологических расстройств, им не помогают антидепрессанты и психотерапия, а проблема остается. У значительного числа людей синдром раздраженного кишечника впервые возникает после перенесенной кишечной инфекции. Многие исследователи пытались найти у людей с СРК воспаления, но их нет в кишечнике в том виде, в каком мы их привыкли видеть под микроскопом (инфильтрация воспалительными клетками). Микроскопические воспалительные нарушения можно зафиксировать, лишь измерив концентрацию определенных молекул и сравнив ее с нормой.
И самое интересное. Одна из разновидностей синдрома раздраженного кишечника, которая сопровождается диареей, недавно получила диагностический лабораторный маркер — антитела к бактериальному цитолетальному разрыхляющему токсину (CLTD). Исследование внедрено в практику пока только в США. Эти антитела достаточно четко коррелируют и позволяют с высокой чувствительностью и специфичностью выше 90% определять эту форму синдрома раздраженного кишечника.
Возникает вопрос, что это: последствие инфекционных заболеваний или все-таки последствие стресса? Противоречие здесь кажущееся. Микробные токсины, антитела к которым определяют в лаборатории, отражают исходную агрессию микроба, из-за которой произошло повреждение нервной системы самого кишечника, нервных окончаний и иногда нервных узлов, которые находятся в стенке кишки. Это закладывает основу для синдрома раздраженного кишечника. На восстановление нервной системе требуется несколько месяцев. Похоже, что у предрасположенных людей в условиях стресса восстановление происходит неадекватно. У них формируются неправильные рефлексы, когда кишка двигается слишком активно или кишка многократно спазмирует, как при варианте с запорами, и не отдает свое содержимое.
Таким образом, как бы сейчас мы ни рассуждали о возможной органической подоплеке этих заболеваний, практических выводов кроме диагностики по антителам пока нет. Противовоспалительные препараты неэффективны. Есть отдельные работы по пробиотикам, что они могут улучшать течение болезни, но эффект их не очень значителен. Кроме того, эти исследования не очень высокого уровня. Основными препаратами, которые действительно позволяют менять прогноз и качество жизни пациентов с функциональными расстройствами, сегодня остаются спазмолитики в сочетании с антидепрессантом и когнитивно-поведенческая психотерапия.

 Любая крупная эпидемическая вспышка вызывает негативные последствия как для отдельных людей, так и для общества в целом, охватывая практически все стороны жизни на макро- и на индивидуальном уровнях. Одним из многочисленных негативных последствий пандемии COVID-19 является «вторая эпидемия» негативных психологических эффектов. Тревога при этом может выполнять как роль стрессового, так и дистрессового фактора. В первом случае тревожные опасения способствуют формированию адаптивного поведения, связанного с соблюдением мер предотвращения заражения. В то же время в психологии здоровья исторически развиваются 2 направления: учитывающее рациональные причины поведения человека, а также подход к описанию поведения как иррационального и потому трудно прогнозируемого. В отношении пандемии COVID-19 уже существуют данные о прагматических причинах некомплайентности населения с противоэпидемическими мерами. Однако в силу исключительной общественной важности соблюдения большинством населения противоэпидемических мер, необходимо понимание всех потенциальных факторов комплаентности.
Любая крупная эпидемическая вспышка вызывает негативные последствия как для отдельных людей, так и для общества в целом, охватывая практически все стороны жизни на макро- и на индивидуальном уровнях. Одним из многочисленных негативных последствий пандемии COVID-19 является «вторая эпидемия» негативных психологических эффектов. Тревога при этом может выполнять как роль стрессового, так и дистрессового фактора. В первом случае тревожные опасения способствуют формированию адаптивного поведения, связанного с соблюдением мер предотвращения заражения. В то же время в психологии здоровья исторически развиваются 2 направления: учитывающее рациональные причины поведения человека, а также подход к описанию поведения как иррационального и потому трудно прогнозируемого. В отношении пандемии COVID-19 уже существуют данные о прагматических причинах некомплайентности населения с противоэпидемическими мерами. Однако в силу исключительной общественной важности соблюдения большинством населения противоэпидемических мер, необходимо понимание всех потенциальных факторов комплаентности. Знаменитый американский ученый, специалист по стрессу и автор научно-популярных бестселлеров Роберт Сапольски опубликовал эссе о том, как стресс, вызванный пандемией, меняет работу нашего мозга.
Знаменитый американский ученый, специалист по стрессу и автор научно-популярных бестселлеров Роберт Сапольски опубликовал эссе о том, как стресс, вызванный пандемией, меняет работу нашего мозга.